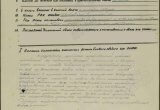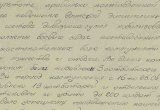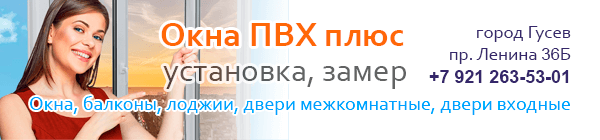«Семейные истории о войне»: Рубченко Иван Иванович
29 сентября 2020, 19:13

Мой отец Рубченко Феликс Иванович 14.10.1937 г. майор, служил в ракетных войсках стратегического назначения в\ч43150 в поселке Еловое. Это его воспоминания легли в основу литературных Дневниковых записей.
Мой дед Рубченко Иван Иванович 23.02.1903 г ст. лейтенант ветеран Великой Отечественной войны.
Глава 1.
Наступил 1941 год. Папа говорил про какого-то Гитлера, а мама иногда, тайком плакала. Дом наш нужно было ремонтировать, так как протекала крыша, поэтому мы перешли на другую квартиру ближе к реке Донец.
Была ранняя весна, тепло. Мы уже во всю купались, хотя был только конец апреля. Как-то мы возвращались с Донца, накупавшись так, что глаза вылезали из орбит. Мы, а это я, дочь хозяйки Машка, где мы снимали квартиру, еще соседские мальчишки и девчонки. Машке было приказано смотреть за мной неустанно. Она не давала мне покоя. Ей нравилось мной командовать. Хотя я возмущался, но слушался. Иначе, без неё на речку меня не отпускали. Большие мальчишки уже стали покуривать. Машка зашумела и сказала:
— Дай мне попробовать! — Я тоже повторил за Машкой:
— И мне!
— Тебе нельзя, ты еще маленький.
Вот этого перенести было нельзя. Я заверещал. Чтобы я замолчал, то дали попробовать и мне. В голове сразу зашумело, закружилось, стало тошнить. У Машки от курева открылась рвота. Все испугались и разбежались по своим домам. Мы вернулись с Машкой домой. Дома заметили, что с нами что-то не так. Сразу стали меня пытать. Естественно, я все рассказал, обливаясь слезами. Машку её мама отметелила, а моя мама меня пожурила, но сказала :
— Сыночка, больше так не делай, не кури.
Такое серьезное, спокойное отношение ко мне настолько на меня подействовало, что со мной разговаривали как со взрослым, то я тоже ответил:
— Х-х-хорошо, мама, я больше не буду. — Так до сих пор я не курил и не курю.
Наступил жаркий июнь. Взрослые были какие-то хмурые и мрачные, говорили о какой-то войне, что к нам идет немец. Я попытался уточнить, когда он придет, но на меня зашикали и этот вопрос больше никогда не поднимал. Бабушка, Акулина Александровна, папина мама, второй год жила у нас. Вдруг, и она, куда-то засобиралась уезжать. Мама ее отговаривала. Убеждала ,что ей одной с детьми будет трудно. Папа молчал, а бабушка не соглашалась оставаться. Как-то раз, я с ней пошел, как она говорила, сниматься с учета в паспортный стол. Был мрачный серый день, холодный ветер, после дождя, гонял по улице сорванные плакаты. Зайдя с бабушкой во двор, я увидел кучу мусора и бумаги, гоняемые ветром по двору. В углу двора на большом щите огромный плакат Бабушка перекрестилась, Я спросил:
— Кто это, бабуш?
— Сатана — ответила бабушка.
— Какая? — переспросил я.
— Гитлер, — и молча пошла к ступенькам крыльца, по которым поднимались и спускались люди.
Бабушка оставила меня один на один с Гитлером, а сама пошла, сниматься с учета. Я внимательно рассматривал огромный плакат. Ничего особенного в нем не было, если не считать, что художник изобразил его с необычной прической. Волосы были зачесаны налево и свисали длинными прядями к носу, прикрывая левый глаз. Не знаю, сколько была бабушка долго или нет, но я стоял, как прикованный и не заметил, как бабушка подошла ко мне, взяла за руку и сказала:
— Пошли.
Мы вышли со двора и направились домой. Придя домой, бабушка стала собирать свой чемодан к отъезду. На следующий день она уехала, несмотря на то, что мама очень упрашивала ее не уезжать. Папа уже какой день не появлялся дома. Только через неделю он появился дома весь заросший, хмурый, уставший и сразу лег спать. Мама не разрешала мне заходить в комнату, где он отдыхал. Мне так хотелось забраться к нему и громко спросить:
— Поедем на р-р-рыбалку?
Меня не столько интересовала рыбалка, а сколько то, что пока папы не было, я научился выговаривать букву «р». Солнышко уже пыталось скрыться за холмом, как вдруг проснулся папа. Я обрадовался, но он обнял меня и сказал:
— Подожди, сынок, мне нужно поговорить с мамой.
Они разговаривали тихо, мама плакала, но потом стала собираться.
— Много не бери, бери только необходимое, — сказал папа и уехал.
Я не понимал, что происходит. Шел мелкий осенний дождь. Утром было сыро и холодно, но меня стала одевать сестра. Мама приготовила завтрак. Только усадили меня за стол, как подъехал папа на подводе с дядей-кучером. Мама спросила:
— Куда ехать? — но папа уже с крыльца крикнул:
— Кузьмич знает, — а сам уже закрывал калитку, выбегая со двора.
Через несколько минут вышли и мы. Мама несла большой узел и корзину, а сестра — небольшой узелок и вела меня за руку. Выйдя за калитку, я увидел красивых лошадей и новую бричку с кибиткой от дождя. Кучер Кузьмич спрыгнул с брички и быстро подбежал к нам, чтобы помочь. Взял у мамы узел и корзину, аккуратно уложил их в кибитке. Потом подошел ко мне и громко произнес:
— Ну что, казак, поедем?
Не успел я моргнуть и глазом, как Кузьмич поднял меня на руки и усадил в кибитку. Точно так же он усадил мою сестру и помог маме взобраться к нам. Мы тронулись в путь, как в неизвестность. Устроившись поудобнее, я стал засыпать и скоро уснул. Не знаю, долго я проспал или нет, но проснулся от тяжести полушубка Кузьмича, которым я был укрыт и яркого солнца, бившего в лицо. Дождя не было. Открыв глаза, я увидел, что мы проезжаем через какую-то станицу. За станицей остановились у родника. Кузьмич напоил лошадей, спросил у мамы:
— Снедать будем? — На что мама ответила:
— Нет, поехали, перекусим по дороге.
Мы двинулись дальше. Ехали очень долго. Солнце закатилось за горизонт. Стало темнеть. Остановились на ночлег. Кузьмич развел костер, чтобы вскипятить воду и попить горячего чая. Заканчивая вечерить, вдруг услышали какой-то надвигавшийся гул. Кузьмич стал быстро гасить костер. Это фашистские самолеты летели бомбить отступающие наши войска. Стало страшно, гул нарастал, но темнота была такая, что в двух шагах ничего не было видно. Кузьмич пошел навстречу гулу, но мама его попросила, чтобы он далеко не уходил. Наши лошади тоже заволновались. Одна из них заржала. Кузьмич, возвращаясь к повозке, сказал:
— Кажется, табун идет. Не наш ли?
Неожиданно около повозки из темноты вынырнул силуэт всадника и глухим голосом спросил:
— Кто такие?
— Иваныч, ты что ли? — спросил Кузьмич.
— Кузьмич? Как вы тут оказались?
— Папа! — закричала моя сестра.
Да, действительно, это был мой папа, твой дед Ваня.
По решению Госкомитета Обороны весь крупнорогатый скот, лошадей и всё, что можно угоняли табунами за Волгу. Одной из таких операций руководил и твой дед Ваня. Он подъехал к бричке, поднял меня к себе в седло, спросил:
— Ну что, сынок, как делишки?
Я обхватил своими детскими ручонками его шею и крепко прижался к нему. От папы пахло степью, гарью и конским потом. Я был горд и счастлив, что встретил папу и что мой папа командир и на коне верхом. Папа поставил меня опять в бричку, слез с коня, подошел к маме, обнял ее и мою сестру, поздоровался с Кузьмичом за руку, спросил у него:
— Как вы тут оказались? — на что Кузьмич ответил:
— По шляху там людно, быстро не разгонишься, да и немец часто беспокоит, своими «Юнкерсами», а тут, вроде, поспокойнее.
— А теперь, как пойдете? — спросил папа.
— Да на Калач, наверное, там надо переправиться, — ответил Кузьмич.
Этот разговор я уже слышал сквозь сон. От встречи с папой мне стало теплее и спокойнее, и я заснул. Проснулся от шума. Выглянул из кибитки, увидел маму, которая стояла у костра, и папу, который уже сидел в седле огромного и высокого жеребца, готового сорваться в галоп, но папа его сдерживал. Папа что-то говорил маме, но было не слышно, лишь обрывки отдельных фраз долетали до моего детского уха.
— Как закончу, сдам табун, разыщу вас!
Папа попрощался с нами и табун тронулся в путь, а это около 500 голов лошадей и два гурта коров и молодняка бычков. Табун уходил вдаль донской степи. Мама и сестра плакали, и у меня тоже, почем-то капали слезы. Кузьмич перекрестил уходящий табун и произнес:
— И нам пора ехать.
Мы тронулись. Когда солнце показывало полдень, остановились. Кузьмич кормил и поил лошадей. Когда лошади и мы подкрепились, немного отдохнули, тронулись дальше. Подъезжая к Калачу, где мы решили переправиться, было видно, что сотни беженцев, колонны войск двигались к переправе. Переправа находилась левее, километров в десяти от города Калач-на-Дону, Сталинградской области. Видны были клубы и столбы черного дыма над городом Калач. Город бомбили немецкие самолеты. К вечеру мы еле пробились к переправе и остановились метров в трехстах от нее. Кузьмич, окинув обстановку, заявил:
— Да, тут нам не переправиться.
И, действительно, охрана переправы никого не подпускала ближе 150 метров, а какой-то маленький военный, перетянутый ремнями зычным, голосом кричал:
— Я комендант переправы, пристрелю любого, кто нарушит приказ.
— Кузьминишна, — сказал Кузьмич, — иди к коменданту, покажи документы и пусть переправит, ведь дети же… Кузьмич не договорил, умолк и стал поправлять сбрую у лошади.
Мама пошла и вскоре вернулась с каким-то дядей военным, в котором мы узнали дядю Сережу-старшего лейтенанта, ночевавшего у нас с группой офицеров, отступавших через станицу Белая Калитва.
— Я договорился с комендантом, показал ему ваши документы и он обещал завтра рано утром, когда войск не будет, он вас переправит.
Ночь показалась длинной и холодной. За косогором, правее от переправы, фашистские самолеты опять бомбили, было видно зарево пожара и запах едкого дыма. Тянуло сыростью от реки Дон. Забрезжил рассвет. На траве лежал иней. Мама и Кузьмич, наверно, не спали всю ночь. Они стояли подле брички, и Кузьмич говорил:
— Гляди, гляди Кузьминишна, что деется.
Слева послышался гул. Это немецкие самолеты шли бомбить переправу и город Калач, и тех кто там оборонялся. Мама, немного подумав, отвела взгляд от немецких самолетов. Вся сжалась, то ли вспомнила предыдущие бомбежки, то ли от холода и тихо сказала:
— Поехали домой.
Мы двинулись на северо-восток по Донской степи, по степным дорогам и проселкам, какие были известны только Кузьмичу. Мы пробирались через степь с опаской, боясь встретится как с фашистами, так и с грабителями. И те и те были опасны. Фашисты, в первую очередь, убивали коммунистов, их семьи, а так же евреев, партизан, цыган и всех, кто им не нравился.
Глава 1.
Зима прошла, как-то незаметно, как и наступившая весна 1942 года. Вновь заговорили о приближении немецких войск, но мы уже никуда не двигались. Мама решила, будь что будет. Беженцы, которые останавливались на ночлег, рассказывали о зверствах и грабежах фашистов, кто-то уходил, а мы остались. Думали, пронесет, но не пронесло. В один из летних дней, мы увидели, за рекой разъезжали машины фашистов. На следующий день, во второй половине дня, в станицу стали въезжать большие фашистские машины.
Станица, как бы, вымерла. Калитки дворов наглухо закрыты. Лишь станичные собаки отводили свою собачью душу. Потом многие из них поплатились. Фашисты безжалостно их расстреливали. Женщины двора прятали вещи, ведра, посуду. Посуду поместили в большой металлический бак и опустили на дно колодца. Ведра просто бросали в колодец, они тонули и не было видно, но бабушка Лиза в спешке бросила свое ведро и оно не потонуло. Немцы-кавалеристы искали ведра и воду, чтобы напоить своих лошадей. Заглянули в колодец, там плавает ведро. Быстро его выловили, а когда присмотрелись, то увидели, что на дне колодца что-то белеет. Выловили бак с посудой и все потопленные ведра. Немного осмелев, мы с Машкой выглянули на улицу. Соседские мальчишки ватагой куда-то бежали.
— Куда вы, пацаны? — спросила Машка.
— Айда на речку, там немцы машины моют, — прокричал соседский Колька Гаврошев, по кличке Гаврош.
Мы с Машкой помчались следом. Добежав к реке, увидели, что немцы, на том месте, где мы купались, мыли свои машины. Уличная пацанва уселась на стене разбомбленной хаты, стоявшей у реки, и наблюдали. Немецкие солдаты, работали с азартом, весело, напевая свои немецкие мелодии. Кто уже помыл, уезжал, другие подъезжали.
Вдруг к воде стала спускаться огромаднейшая машина с длинным и высоким закрытым кузовом. Из нее вылез, такой же, огромный, высокий и толстый немец-шофер. Он открыл заднюю дверь своей машины. Нашему взору открылось все, что находилось внутри кузова. Это была, как потом мы поняли, походная кухня. Чего только в ней не было: топоры, ножи, черпаки разных размеров и сортов. Немец стал все это мыть. Увидев, что мы за ним наблюдаем, он снял очередной огромный алюминиевый черпак с деревянной ручкой, резко повернулся в нашу сторону и, изобразив, что у него в руках оружие, громко прокричал:
— Пах, пах, пах.
После такой выходки немца мы, как горох, посыпались со стены, где сидели. Немцы, наблюдавшие за этой картиной, громко расхохотались. Шедшая мимо старушка прокричала:
— А ну, лихоманцы, геть отселя, пока вас тут не перестреляли, как горобцов.
Я увидел свою сестру Клаву, которая шла к купальне и искала меня. Забрав меня, мы отправились домой. Войдя во двор, я увидел, что во дворе уже хозяйничали немцы. Двое стояли с автоматами около стены дома. Трое в саду рвали яблоки, остальные брали воду у колодца.
По ступенькам крыльца спускался немец с ведром, которое до этого стояло на крыльце с питьевой водой. Моя мама хотела выхватить это ведро, схватилась за его дужку. Немец не отдавал, На помощь маме подбежала соседка. Завязалась потасовка. Вода выплескивалась из ведра и обливала всех вокруг. Старший немец в трусах вскочил со ступенек и сердито по-немецки что-то сказал. Немец отпустил ведро, поправил быстро на своем плече винтовку и быстро ушел.
Старший немец стал объяснять, что немецкие солдаты не изверги, что им тоже нужны ведра, чтобы носить воду для себя и своих лошадей, но женщины не унимались. Тогда, почему-то у немца лицо стало вдруг злым и он своей дубиной, на которой вырезал узоры, стал сбивать головки цветов. Это еще сильней возмутило женщин двора. Немец понял, что он делает глупость, прекратил косить палкой цветы, насвистывая какую-то незнакомую мелодию, вышел со двора.
На следующий день мы пошли на свой огород, где весной посадили картофель, кукурузу и другие овощные культуры, чтобы хоть как-то прокормиться. Пришли на огород увидели, что картошка выкопана, кукуруза выломана, а огород имел жалкий вытоптанный вид. Послышался гул. Мы увидели, что со стороны солнца заходили самолеты на бомбежку. Мы спрятались у каменной огородной стены в кукурузе. Мама и сестра сняли белые платки, которыми были подвязаны, чтобы не так было заметно с воздуха. Наш огород находился около шляха, по которому двигались немецкие войска. Первая бомба разорвалась почти рядом. Веер осколков пролетел над головами. Комья земли от взрыва посыпались на нас. Я заплакал. Мама прижала меня к себе. Сестра почему-то начала креститься и кричать:
— Мама! Мне страшно.
— Тихо, тихо, мои деточки, а то немцы услышат.
Отбомбившись, самолеты уходили на северо-восток. Мы быстро собрались и побежали домой. Дома тоже нас ждала неожиданность. Утром, перед уходом на огород, мама сварила борщ с последней курицей, которая у нас оставалась. Кастрюлю поставили на окно, чтобы остывала. Войдя во двор мы увидели, что окно, где стояла кастрюля, было выставлено и из кастрюли исчезла курица. Хозяйка сказала, что заходили румыны и грабили все, что можно было взять. Утром следующего дня, по дворам ходили полицаи с немецкой охраной и переписывали всех. Немец в очках что-то записывал. Один из полицаев, показывая на маму и нас с сестрой, сказал:
— А это, семья коммуниста.
— Коммунистен? О! Корошо, — ответил немец в очках и что-то пометил в своем журнале.
Полицаи ушли, а мы томительно ждали, когда за нами придут. На следующий день по дворам ходил один из полицаев, но опять с немецкой охраной и оповещал, что все завтра должны выйти на работу, кто не выйдет будет наказан. Как наказан, он не пояснил, и никто не спросил, в чем будет выражаться наказание. Утром все взрослые пошли на работу, а мы с сестрой остались дома. После работы все пришли, а мамы почему-то не было.
Оказывается, она заходила в Управу, как теперь называлась местная власть, чтобы взять справку на выезд, к своим родным, на хутор Ерофеевку. Ей сказали, что мы тебе дадим вот такую справку и показали на окно. За окном, на акации, висела повешенной семья евреев: муж, жена и трое детей. Мама, после всего увиденного, не могла прийти в себя, ее колотило, она плакала и сильно меня целовала и прижимала к себе. Ее успокаивали соседка и хозяйка дома.
Каждый день маму гоняли на работу: то на рытье окопов, то на уборку урожая. В один из таких дней на уборке винограда к маме подошел старичок и тихонько заговорил:
— Дарья Кузьминична, ничего не слышно от Иваныча?
Мама подозрительно на него посмотрела.
— Не пугайтесь. Вы меня не знаете, но зато я вас знаю, очень хорошо знаю вашего мужа. Мы все его помним. Золотой человек. Когда будет перерыв, и пойдете пить воду, то зайдите вон в ту будку.
Он указал взглядом на кусты, где почти незаметно разместилась небольшая будка в виде шалаша.
— Я сторожем здесь работаю.
Он тихонько, как и подошел, незаметно удалился. Об упоминание, о папе моей маме стало не по себе. У нее, от постоянного недоедания, закружилась голова. Она присела рядом с корзиной, в которую клала сорванный виноград. К ней сразу подошел надсмотрщик и грубо ударил ее плеткой по спине.
— Ну что, большевичка, отвыкла от работы? — подошедший полицай ударил ее ногой в бок. Мама упала рядом с корзиной.
— А ну, пошевеливайся, краснопузое отродье, — продолжал полицай, ударив маму еще раз плеткой.
От удара плеткой горела спина, на ноге выступила кровь. Мама поднялась, шатаясь и хромая, пошла вдоль ряда виноградника. Послышался звон от ударов по рельсе, которая висела около домика, стоявшего около будки сторожа. Сторож сидел на лавочке рядом с будкой и что-то строгал. Увидев маму, он засуетился и потом спросил:
— Что, опять били?
— Да, — тихо ответила мама, — ни днем ни ночью покоя нет.
— Я вот по этому поводу и хотел поговорить. Вон видишь, около леса, стоит одинокая хата, там когда-то хранили ульи. Теперь она пустует. Ночью, чтоб меньше кто видел, переберитесь туда. Немцы там не появляются, боятся партизан. Там вам будет спокойнее. А пока полицаи будут вас искать, то нужно за это время уехать. Есть у вас родственники, а то здесь вас порешат.
— Да, есть у меня родственники в Ерофеевке.
— Я знаю, где это. Когда-то я работал в Самбуре и часто бывал в тех местах.
Сторож рассказал маме, как лучше добраться в Ерофеевку.
Вечером, еще не успели мы уснуть, как в дверь громко застучали. Грубый голос полицая разрезал тишину лунной ночи.
— Открывай, комиссарская тварь.
Мы с сестрой заплакали. Хозяйка запричитала:
— Господи, Кузьминична, уйдите, ради бога, от нас, а то от вас и нам покоя нет.
Мама медленно прошла по залитой лунным светом комнате в коридор. Было слышно как она открывала дверь. Полицаи свирепствовали, мама вышла на крыльцо. Свет луны расплескал свои бледные голубые блики по всему двору. Было видно, что около ступенек крыльца стоял немецкий солдат с автоматом, а трое местных полицаев были на крыльце.
— Ты связана с партизанами? Признавайся, — закричал один из полицаев, пытаясь схватить маму за косу. Но она резко оттолкнула пьяного полицая от себя. Полицаи стали ее избивать. Мы опять закричали и заплакали. Хозяйка стала заступаться, но ей тоже перепало от распоясавшихся, озверевших от самогона полицаев. Спустившись с крыльца, они собрались уходить. Один из них сказал:
— Завтра мы с вами покончим.
Хозяйка опять запричитала:
— Все, Кузьминична, через вас и нас порешат. Уходите, ради бога.
Мама, вытирая слезы и кровь, стала собираться. Взяв только необходимое и один небольшой узел, одев меня, сестра моя уже оделась сама и помогала маме. Поблагодарив хозяйку, мы тихонько вышли со двора. Луна уже заходила за горизонт и надвигалась темная осенняя ночь 1942 года.
До леса мы добрались без происшествий. Никто нас не видел. Где-то далеко, на окраине, слышен был лай уцелевшей собаки. Мы подошли к хате, одиноко стоявшей около леса. Луна давно уже зашла за горизонт, наступила кромешная темнота. Мама потянула дверь хаты на себя. Она страшно заскрипела. Я испугался и захныкал. Мама меня успокоила. Зашли в хату. Мама легко ориентировалась в темноте. Она после работы, когда все ушли домой, вернулась и все посмотрела заранее. Она усадила меня на какой-то топчан, стоявший в углу комнаты, постелила одеяло, уложила меня, накрыла своей вязаной кофтой и я уснул. Проснулся я от утренней осенней прохлады. Открыв глаза, не мог сообразить, где нахожусь. У противоположной стены было два окна, но они были закрыты снаружи ставнями. Через ставни пробивался солнечный луч, пересекающий всю комнату до топчана. Где я лежал. Темнота и этот лучик света показался мне такой жутью, что я захныкал.
— Тихо, — шепотом сказала сестра, — а то полицаи придут.
— Мама, — запищал я.
— Нет мамы, замолчи, а то немцы услышат.
Присмотревшись в темноте, я увидел, около топчана, на поломанной табуретке две вареные в мундирах картошины. Сестра предупредила:
— Все не ешь. Это нам с тобой на три дня.
— Почему на три? — переспросил я, — а мама?..
Сестра перебила меня, уже рассержено, ответила:
— Мама, мама, заладил. Нет мамы, через три дня придет, Молчи.
Стало страшно, я замолчал, накрылся с головой. Мне казалось, что так никто меня не увидит.
Мама, в ту же ночь, как мы перебрались в хату, стоявшую около леса, ушла в Ерофеевку. Шла она, в основном, ночами, скрываясь и от своих и от немцев, а днем отсиживалась в оврагах и перелесках. Через три дня мама появилась и тихо постучала в дверь. Сестра не открывала.
— Доча, это я,-тихо произнесла мама.
Сестра быстро открыла. Мама забежала в хату, закрыв за собой дверь на запор.
— Ой, мои деточки, милые, как вы тут без меня были?
Она развязала принесенный с собой узел, достала пахучий домашний хлеб, сало, яблоки, виноград.
— Виноград я уже здесь сорвала, у себя, где убираем. Ешьте, мои хорошие. Это бабушка вам гостинчик передала.
Не знаю, много ли времени прошло, но точно знаю, что наступили холода. Морозным, ранним утром за нами приехали на арбе, запряженной быками, наполовину загруженной свежей соломой. Приехали мамин брат Андрей и моя тетя, тетя Таня. Дядя Андрей был инвалид детства. Одна нога у него была крива, поэтому его в армию не призвали. Еще было темно, но быстро погрузились, хотя и грузить то было нечего. Меня с сестрой зарыли в солому посредине арбы.
— Все? — спросила тетя Таня.
— Все,-ответила мама,-с богом.
— Цоб, цабе, — тихо скомандовал, дядя Андрей быкам и арба заскрипев, тронулась.
Стояло тихое морозное утро. Мороз щипал за уши и нос. У меня замерзли ноги. Я стал хныкать. Сестра на меня зацыкала:
— Замолчи! Цыц, а то немцы услышат. У меня тоже ноги мерзнут, шевели пальцами.
Я стал двигать пальцами, стало легче, но все равно ноги мерзли. Боязнь того, что немцы нас могут остановить и не пустить, а то и расстрелять, заставляло меня терпеть. Рассвет холодного утра только зачинался, а мы ухе проезжали центральную станицу соседнего района. Пошла мелкая изморось, которая сразу замерзала, отчего дорога сделалась скользкой. Проехали станицу, стали подниматься на косогор.
— Сейчас перевалим через бугор и мы считай дома, в безопасности, там пойдем степью, — запыхавшимся голосом произнес дядя Андрей. Как будто не быки, а он сам тащил арбу. Да, ему было очень трудно на одной ноге поспевать за быками. Все это время никто из них не садился на арбу, шли рядом, а когда быкам было трудно, помогали, толкая арбу сзади. Но здесь произошло то, чего никто не мог предположить. Изможденные, уставшие быки скользя и падая не могли вытащить арбу на крутой косогор.
Дав чуть отдохнуть своим быкам, мы тронулись в путь. Чем дальше мы продвигались на юго-восток, к Ерофеевке, тем туман рассевался, изморось прекратилась, дорога перестала быть скользкой. Не знаю, долго мы ехали или нет, но мой голод перешел в слабость, а потом в сон. Проснулся я от шороха в соломе. Меня раскопали в соломе, вытащили из арбы. Вокруг уже стояла темнота, арба находилась в каком-то дворе и какая-то бабушка причитала:
— Божеш ты мой, да что ж это такое за страдание, — увидев, как меня, скрюченного, вытащили из соломы, — Давайте быстрее в хату.
Вошли в хату. От яркого света керосиновой лампы, стоявшей на столе, я закрыл глаза.
— Ты чего, сыночка, — сказала мама, ставя меня на пол, — Слава богу добрались благополучно, Это твоя бабушка Анюта. Это твой дедушка Кузьма, мой папа. Это тетя Мариша, дяди Андрея жена, а это его дочери, твои сестрички: Анна, Маруся и Катя. Дедушка сказал:
— Давай корми быстрей, бабка, а то они проголодались.
Действительно, я был голодный, но, поев чуть-чуть борща с бараниной, попив молока, которого долго уже не пил, да еще с пахучим, вкусным, белым домашним хлебом, ушел спать. Спать меня уложили на печке, где было тепло, удобно, просторно. Я быстро уснул под говор взрослых, которые долго ужинали, разговаривали за столом. Утром проснулся я поздно. В хате опять было тепло и уютно. Бабушка возилась у печки. Дедушка принес дрова.
— О, проснулся, казак! — произнес дедушка, увидев меня сидящего на печке, -а на улице зима. Вставай, ешь и, айда, кататься на санках.
Посмотрев в окно, я действительно увидел, что все белым-бело от выпавшего за ночь снега.
Пришла зима 1942-43гг. Через месяц немцы дошли и до Ерофеевки, но нас там мало кто знал, поэтому никто не трогал и не беспокоил. Основные немецкие части прошли через Ерофеевку не останавливаясь, а через некоторое время в хутор вошли тыловые подразделения-обозы немецких войск. Это были, в основном, подводы, груженные всякой всячиной: вещевым имуществом, обмундированием, ящиками с оружием, снарядами и другим военным снаряжением. Немецкие солдаты были, в основном, пожилые. Одним словом, тыловые части.
Нас выселили. В одной комнате немцы разместили штаб. В другой, наносили соломы и немецкие солдаты спали там на ней. Я как был на печке, так там и остался. Меня никто не трогал. Один немец по возрасту моложе других, сносно объяснялся по-русски. Он спросил у меня, как меня зовут. Я ответил:
— Феликс.
— О! — воскликнул немец, — Филакс!
— А как тебя зовут? — спросила бабушка немца, возясь у печки.
— Меня? — переспросил немец.
— Да, тебя, — спросила бабушка.
— Мея зовут Ганс, — он вытащил из кармана фотографию и показал бабушке, — это моя семья.
— А, семья, — повторила бабушка, посмотрела фото его семьи и вздохнув, молча вернула ее Гансу.
— Филакс, корош, — показывал на меня Ганс.
Здесь его позвали, и он вышел на улицу. На следующий день он принес огромную аллюминевую чашку, которая была вымазана каким-то темным составом, как дегтем. Он поставил эту чашку передо мной и говорит:
— Ам, ам!.
— Я не знал, что делать и как поступить.
Девчонки, мои сестры Мария, Екатерина, Клавдия набросились на чашку и выгребая руками темно-коричневую массу отправляли ее в рот. Я с опаской пальцем попробовал на вкус смесь и понял, что это остатки повидла. Моя медлительность привела к тому, что мне мало досталось.
Немцы, которые находились в Ерофеевке и те, что были у нас на постое, особо не докучали. Утром, они, куда-то уезжали и возвращались к вечеру, а то и вообще не возвращались. Через месяц в средине декабря они спешно, куда-то засобирались. С северо-восточной стороны хутора, где-то далеко слышен был гул и раскаты, как гром, а по вечерам полыхало зарево. Когда бабушка спросила Ганса, что это такое, то он уклончиво ответил:
— Да, это наши войска громят партизан.
По состоянию и действиям немцев было видно, что происходит, что-то не так. Тем более, неделю тому назад, когда дедушка пошел кормить вечером корову, то около стога, где он брал сено, услышал шорох и какой-то шепот.
— Кто там? — спросил дедушка.
Из темноты появился человек в белом маскировочном халате.
— Здорово, дедуля, немцев в селе много?
— Наши! — чуть не закричал дедушка.
— Тих, дедуля. Не шуми.
— Нет, мало немцев, обозники. Когда вас то ждать, — взволнованным голосом спросил дедушка Кузьма.
— Скоро, дедуля, скоро, — ответил боец.
К ним подошли еще трое, а остальные, не видно, сколько еще их было, скрывала темнота и маскхалаты.
— Немец не свирепствует? — спросил один из троих подошедших.
— Да нет, обозники же, — повторил дедушка.
Через день штаб, находившийся в одной из комнат хаты дедушки Кузьмы, стал спешно грузиться к отъезду. Немецкие солдаты таскали тяжелые ящики и грузили их на свои подводы. Немецкий офицер, руководивший погрузкой, включил приемник, стоявший на столе. С огромного ящика полилась бравурная музыка.
Немцы уходили также неожиданно, как и появились. Почти неделю было тихо. Лишь с юго-востока слышен был гул и по ночам пылало зарево.
Глава 1.
Наступали новогодние святки. Девчонки, мои сестры, гадали, когда выйдут замуж и кто будет муж. Я с соседскими пацанами бегал колядовать. Прошло Рождество, приближался старый Новый год. К дяде Андрею приходили мужики поиграть в карты и отведать самогоночки, которую он готовил по рецепту дедушки Кузьмы и усовершенствовал в процессе производства. Качественней самогонки на хуторе не было ни у кого.
Мою маму, тетю Таню, старшую сестру Анну и среднюю Марию погнали на рытье окопов полицаи. За хутором, уже третий день какая-то немецкая часть готовила оборону. Было около одиннадцати часов утра 14 января 1943 года. Светило январское солнце. Снег настолько ярко сверкал от солнечных бликов, что слепил глаза. Я сидел на печке, но было уже не вмоготу. Мужики настолько надымили самосадом, что нечем было дышать. Не успел я слезть с печки, как в хату прибежала Мария и жадно стала пить воду. За ней пришли мама, тетя Таня и Анна. Анна сразу стала возмущаться:
— Вам что тут, курилка? Ничего в хате уже не видно. Я только к празднику все поубрала, побелила. Мужики похватали свои шапки и стремительно высыпали на улицу, опасаясь, что и им может достаться. Дядя Андрей пытался возражать дочери и одернуть ее, но вошедший в хату деда Кузьма, поддержал внучку. Дядя Андрей умолк, допил самогон, оставшийся в его стакане и вышел на улицу.
— Вы че, сбежали с окопов? — спросил дедушка.
— Нет, — ответила Мария, — немецкие охранники ушли, а за ними разбежались и полицаи. Остался лишь Колька полицай. Он и дал команду, чтоб мы шли домой.
Тетя Таня тоже разделась, поправила свои пышные волосы, продолжила начатый разговор Марии.
— Я копала окопы с краю, где стояли часовые с полицаями и они разговаривали, что русские наступают и вот-вот могут появиться здесь.
— Скорей бы, — произнес дедушка Кузьма
Катька подошла ко мне и тихо сказала:
— Пошли, посмотрим, где наши.
Мы выбежали во двор и побежали на баз, где весной и в хорошую погоду выгуливали скот. На базу, кроме теленка и двух ягнят никого не было. Мы с Катькой стали подниматься по каменной стене, чтобы посмотреть, где наши. Только мы выглянули из-за стены, как услышали, что что-то прошуршало над головой. Это, оказалось, пролетел снаряд и разорвался за нашим садом. То ли от страха, то ли от взрывной волны пролетевшего снаряда, нас как смело со стены. Мы быстро побежали в хату.
Не успели мы раздеться, как во двор забежали три немца и побежали дальше к саду. По улице промчался танк. Мы даже не могли рассмотреть чей. За ним, но уже с меньшей скоростью, проскочил второй, с крестом на башне.
— Немцы, — вздохнул дядя Андрей, сидевший на лавке у окна. Потом, вдруг как закричал — Наши, наши, — и, ковыляя хромой ногой, выбежал на улицу, продолжая кричать:
— Наши! Родненькие, как мы вас заждались.
Танк остановился, открылся люк башни танка и вылез военный, спрыгнул с танка и забежал во двор, держа в руке пистолет. Сзади за ним бежали два бойца с автоматами. Бабушка зашумела:
— Андрей, вернись, не мешай людям, а то еще убьют.
Лейтенант вначале думал, что у нас немцы, но потом понял, спрятал пистолет в кабур и попросил:
— Дайте воды напиться. Карнаухов, Карнаухов! — позвал лейтенант. — Залей воды в радиатор!
— Есть! — по-военному ответил боец, забросил автомат за спину, схватил ведро с водой и побежал заливать воду. Лейтенант поблагодарил за воду и, как бы оправдываясь, произнес:
— Извините, но нам пора, — лейтенант пошел к танку, бойцы тоже пошли за ним, попрощавшись с моими сестрами. Дядя Андрей поковылял за ними, крича вдогонку:
— Спасители вы наши, родные!
Бабушка схватила его за рукав и не дала ему выйти со двора.
— Не мешай людям, не отвлекай их от дела.
Танк заурчал, выбросил черный дым, тронулся с места, резко пошел вперед. Мы все махали им вслед руками со слезами на глазах. Через дорогу с соседнего двора три наших солдата вывели долговязого немца и повели по дороге в сторону нашего колодца. Из калитки соседнего двора вышел дед Салов и говорит:
— Как он, лихоманец, мог поместиться под кадушкой, но кусок шинели был виден, вот солдаты его и обнаружили.
Раздалась автоматная очередь. Долговязый немец завалился на нашей дорожке, ведущей к колодцу. Теперь к колодцу по воду никто из девчонок не хотел идти. Дедушка Кузьма сходил к колодцу и принес ведро воды. Девчонки побежали в центр села, где валил черный дым. Горела хата. Ее зажгли фашисты, сделав дымовую завесу. Хату уже тушили. Девчонки подбежали и стали помогать таскать воду, чтобы потушить пожар. Солдаты помогали крутить ворот колодца, чтобы быстрей доставать воду. Мы с Катькой тоже прибежали, смотрели, что происходит. Солдаты угостили нас трофейными галетами.
Вдруг раздалась автоматная очередь, из соседних кустов, пули просвистели над головами. Девчонки завизжали и бросились врассыпную. Немцы хотя и организовали оборону хутора, но не ожидали, что прорыв и наступление частей Красной Армии будет именно здесь. Бой, по ликвидации группировки противника, организовавшей оборону хутора, длился недолго. Разрыв снаряда пришелся по глубокой канаве, проходившей за нашим садом. Там и залегли фашисты. После первого взрыва снаряда уцелевшие фашисты подняли руки вверх, показывая нашим танкистам, что они сдаются. Группировка противника, действующая в районе хутора, была частично уничтожена, остальная окружена и взята в плен.
Развалив, половину саманной стены нашего забора, со стороны улицы, во двор ввалился Т-34. Командир танка, средних лет старшина с южнорусским говором сказал, что если мы не будем возражать, то они остановятся у нас на ремонт танка. Потом, кроме танкистов, заехала полевая ремонтная мастерская, машина-будка, потом еще машина с солдатами. Наш двор превратился в постоялый. Стоявшие на постое бойцы, угощали меня и девчонок трофейными галетами, шоколадом и всякой всячиной, а также учили меня частушкам. Этот процесс проходил в торжественной обстановке. Меня ставили на припичек возле печки, а сами рассаживались вокруг, в ожидании сногсшибательного номера. Когда я торжественно произносил:
— Здесь карманчик, здесь часы, здесь пол фунта колбасы, — демонстрируя это показом, то хохот стоял сумасшедший. Один из бойцов научил меня еще одной частушке про Гитлера. Внешне это выглядело вроде бы безобидно, но частушки я сопровождал жестикуляцией своих рук. Когда боец убедился, что репетиция прошла успешно, решили этот номер продемонстрировать вечером, при стечении большой публики: не только бойцов, стоящих у нас на постое, но и других, приходивших к нам в гости.
Когда вечером боец объявил, что сейчас будет исполнен коронный номер, все притихли. Я поднялся на припичек и на полном серьезе выдал новую частушку, красочно, для убедительности, показывая руками. Комната наполнилась грохочущим хохотом. Бойцы от смеха катались покатом. Вместе с ними хохотал и дядя Андрей. Дедушка Кузьма крутил свой седой ус, не зная как отреагировать, а бабушка Анюта три раза перекрестилась и произнесла:
— О господи, чавож ето деиться?
Моя мама прервала эту срамоту.
— Вы что?! Что ребенка всякой дурости и похабщине учите. Взрослые люди, еще бойцы называются.
Она взяла меня на руки и унесла в другую комнату, повторяя:
— Больше никогда этого не произноси, понял? Никогда.
— Понял, — ответил я, не понимая еще, что же произошло. Одни хохочут, а маме не нравится.
В комнату, где мы были с мамой, извинившись, вошел старшина и тихо сказал:
— Кузьминична, Вы не обижайтесь, пожалуйста. Какой с бойца спрос. А это вашему сыночку, он у вас отличный парнишка, — и поставил большой бумажный мешок, почти доверху наполненный трофейными печеньем и всякими сладостями. Я был рад, что столько много всего, а мама, почему-то заплакала. Старшина еще раз извинился и вышел из комнаты к своим бойцам. Слышно было, как старшина громко сказал:
— Карнаухов, твоя работа? — Карнаухов молчал, — я тебя накажу, рифмоплет.
Бойцы опять захохотали, а Карнаухов оправдывался:
— Товарищ старшина, так я ж, как лучше…чтоб… — но его слова опять потонули в хохоте собравшихся бойцов, которые все подходили и подходили, Казалось, что уже негде было упасть, но они умудрялись где-то все же разместиться. Кто-то принес трофейный патефон. Зазвучала мелодия душещипательного танго. Девчонок сразу расхватали на танец. Бойцы веселились от души. Молодость брала свое, как будто и не было войны.
На следующий день танкисты уехали испытывать танк после ремонта. Остальная часть бойцов, которые были, на машине попрощались, уехали совсем. После обеда танкисты вернулись, привезли с собой одичавшего кабана, каким-то образом уцелевшего и бегавшего по степи и оврагам. Бабушка, а ей помогали девчонки, стали варить в большом котле кулеш.
Не успели окончить варево, как налетели фашистские самолеты и стали бомбить. Две бомбы упали за нашей хатой и осколками посекли всю глухую стену. Остальные бомбы упали: одна за садом, другая в огороде, третья на лужайке за колодцем, а четвертая около клуни.
От взрыва этой бомбы у нас вылетели все стекла в окнах хаты, выходящих во двор. Дядя Андрей, сидевший на лавке у окна, был ранен разбитым стеклом. Из бойцов никто не пострадал. Старшина дал команду рассредоточить технику и замаскировать ее. Мы ушли к балке, за нашим садом, где стояла пустая хата, в расчете на то, что там будет спокойнее. К вечеру еще был налет фашистской авиации. Бомбили еще сильнее и дольше.
Вой пикирующих бомбардировщиков, взрывы бомб, стрельба зениток, мы и не видели их, а они были замаскированы в балке около хаты, где мы прятались. Девчонки визжали, я плакал, бабушка Анюта и мама молились, чтобы бомбы не попали в хату. После бомбежки, продолжавшейся около часа. Мы покинули заброшенную хату и пришли домой. Вернувшись домой и войдя в хату, бабушка Анюта произнесла:
— Слава богу живы остались. Больше никуда не пойдем, Хоть погибнем, так дома.
Ночью, со стороны станции Глубокой, горело, зарево и слышен был гул и грохот боя. Утром привезли раненых бойцов в госпиталь, который находился в школе. Раненых было много. Девчонки ходили, помогали врачам, санитарам и выздоравливающим бойцам. Через неделю все войска уходили вперед. Дедушка Кузьма провожал бойцов, сказал:
— Слава богу, погнали изверга. Ребята, удачи вам. Гоните его, лихоманца, не дайте ему вернуться.
После ухода бойцов хата опустела. Как-то стало тихо и тоскливо. Чувствовалось, что скоро наступит весна. За нашим домом в яму, воронку от бомбы сваливали снаряды и боеприпасы всех калибров, которые вывозили из клуба, где у немцев был склад. Я вышел посмотреть. Вокруг воронки стояли соседские девчонки и мальчишки такие же маленькие, как и я. Внизу большой пацан, старше нас, приехал в гости к соседям с хутора, расположенного за речкой. Его сестра, стоявшая у бруствера воронки шумела:
— Васька, не тлогай, дулак, я сейчас маме пойду, скажу
А Васька все равно продолжал гранатой сбивать блестящее кольцо со снаряда. Но оно не поддавалось. Васька, от усердной работы, остановился передохнуть, поднял голову, увидел на бруствере малышню, крикнул:
— А ну, улипетывайте отселя!
Малышня стояла не двигаясь.
— Ну! — опять крикнул Васька и замахнулся на них гранатой. Малышня побежала от бомбовой воронки, спотыкаясь и падая. Опять послышался лязг. Васька продолжал сбивать блестящее кольцо. Из-за нашей хаты вышла моя мама и позвала меня. Я не хотел уходить. Она уже строже пригрозила мне хворостиной. Я пошел к ней. Дойдя до угла своей хаты, грохнул взрыв. Мама от ужаса схватилась руками за голову. Я оглянулся и увидел, как черный дым и комья земли поднимались вверх. Мне тоже стало страшно.
— Вот видишь, как не слушать маму, — приговаривала она, толкая меня в спину.
Я бежал молча в хату, а в глазах стоял взрыв и голову сверлила мысль, что с Васькой? А Ваську вытащили из воронки, его брат и тетка, прибежавшие, услышав взрыв. Васька просил пить, держался за живот. Брат Васьки сбегал за санками, погрузили его на санки и быстро, бегом повез его за речку, на хутор, где Васька жил. Не доезжая до речки, Васька умер. Весь живот и грудь Васьки были побиты осколками. Левую ногу оторвало совсем. Этот случай подействовал на хуторских пацанов. Я тоже долго не высовывался из хаты.
Через день на хутор приехали солдаты-саперы. Они грузили бомбы и снаряды на машины и куда-то увозили. Когда закончили вывозить немецкие боеприпасы из клуба, пошли искать мины, гранаты и прочие боеприпасы по всем дворам, огородам и в поле. Анна и Мария, как и другие взрослые девчонки и мальчишки села ездили в поле помогали солдатам. В одну из таких поездок Мария привезла мне командирскую фуражку с большой красной звездой, а дяде Андрею винтовку с пятью патронами и бинокль. Я был очень рад подарку, но не меньше был рад и дядя Андрей.
— Есть теперь чем охранять сад, — повторял дядя Андрей, рассматривая свои подарки. Позже, участковый милиционер хотел отобрать эту винтовку, но дядя Андрей дал ему четверть самогону и тот отстал. Винтовка была до тех пор, пока не выстреляли все пять патронов, и бабушка Анюта заставила его сдать эту винтовку.
Хуторским уже стали приходить письма с фронта. Фронт ушел от нас далеко. Девчонки тоже получали письма от солдат, которые стояли у нас. От папы не было слышно ничего. Тетя Таня уговаривала маму написать запрос, с просьбой о его розыске, но мама не решалась.
Уже пошел 1945 год. Хуторяне готовились к весне. Собирались сеять, но семян, техники, быков, лошадей не было. Решали, как быть. Весна 1945 года была в разгаре. Шел второй год, после того как хутор, в январе 1943 года, освободили от фашистских захватчиков. Жители хутора Еорофеевка готовились к посевной. Третья, после оккупации посевная, была немного легче, потому что уже были и семена, и техника. Радость победы переполняла души как взрослых, так и детей. Взрослые работали в поле от зари до зари.
Ко дню освобождения хутора от фашистов, 14 января 1946 года, учительница разучивала с нами новую песню, мне запомнились такие слова песни: «Есть на Севере хороший городок…» Мы уже дружно горланили эту песню, но учительница старалась, чтобы мы не сильно кричали, а с выражением и душевно исполнили, особенно концовку песни. Многим это стало надоедать, но учительница сказала:
— Пока не исполним без запинки всю песню будем тренироваться.
Вдруг в дверь класса постучали, потом дверь приоткрылась, и кто-то позвал учительницу. Она подошла к двери, ей, что-то сказали, и дверь класса закрылась. Учительница, радостно улыбаясь, сказала мне:
— Собирайся и можешь идти, тебя за дверью ждут, а мы еще потренируемся.
Класс загудел, но учительница была непреклонной. За дверью класса меня ждала моя сестра Клава.
— Пойдем быстрее домой, — сказала она.
— А чего? — спросил я.
— Узнаешь, — улыбалась она, но не говорила.
Я приставал к ней всю дорогу, но она не говорила, а когда уже подходили к хате, а мы опять жили у дяди Андрея, то Клава не удержалась и сказала:
— Вот репей, пристал, папа наш приехал.
От такого известия я даже остановился. Меня пронзила мысль: «а как я его узнаю?».
Зайдя в хату, я увидел за столом сидящих двух военных. Моя мама подавала им тарелки. Вдруг один из военных, что помоложе, вскочил из-за стола с возгласом:
— Сынок, мой сынок! — подбежал ко мне, поднял меня на руки, крепко прижал к своей груди.
— Родной мой, — продолжал папа. Глаза его были радостные и чуть-чуть влажные. Он поставил меня на пол, быстро открыл свой небольшой чемодан, вынул из чемодана какой-то сверток и подал мне. В свертке были фонарик с цветными стеклами: белым, красным и зеленым стеклом, большую двухрядную губную гармошку и шоколад. Я был очень рад, а когда папа нажал на кнопку и фонарик загорелся, то я был в восторге.
Только сейчас я увидел, что на правом боку, на ремне у папы был настоящий пистолет, как потом мне сказал папа, назывался «ТТ». У другого военного солдата, который привез папу на двуколке с вокзала железнодорожной станции Глубокая, на ремне висел настоящий большой нож. Солдат поблагодарил за обед, пожелал папе приятного отдыха, быстро оделся и уехал опять на станцию, а папа обнял нас всех: маму, Клаву и меня, спросил:
— Ну, как вы тут поживаете?
Мама молча пожала плечами и расплакалась. Папа еще раз обнял нас и сказал:
— Ну не нужно, все уже позади, радоваться надо, война закончилась. Я вот привез в Москву литературу, которую напечатали в Берлине. Ее распределили по округам всей страны. Я выбрал Закавказский военный округ. Быстренько привез, сдал ее и скорей к вам на пару дней.
Папа пробыл у нас три дня и быстро уехал, сказав, что он скоро вернется. После его уезда дядя Андрей стал относиться к нам более дружелюбно и добрее. Перестал требовать от мамы денег на выпивку, сделал мне коньки, на которых я научился кататься. Смастерил настоящий лук со стрелами, которые пробивали многослойную фанеру и тонкую доску. Такого лука ни у кого не было. Но такое добродушие продолжалось недолго. Через месяц, опять начались споры, ругня, незаконные домогательства по поводу нашего проживания. В конце марта мы собрали свои пожитки, и ушли на квартиру.
Хутор Ерохин, как его иногда называли, готовился к рождественским святкам. Моя сестра, с подругами, гадали на своих суженных. Мы, я Мишка и другие пацаны с нашей улицы, готовились к щедрованию, колядкам и другим рождественским и новогодним торжествам и обрядам. После щедрования нас угощали варениками с картошкой, творогом и коровьим маслом, кое-где одаривали денежной мелочью. Закончив щедровать, катались на санках с горы. Когда становилось совсем темно, выходили взрослые, молодежь, вытаскивали за дышло на гору большие сани, на которых возили на поля навоз, загружали эти сани немного соломой, чтоб удобно было сидеть, в сани садились девчонки, парни, нас маленьких не брали. Шум, визг, веселье стояли неописуемые и с таким криком спускались с горы.
Радость была необыкновенная. Внизу горы мы из снега катали большие снежные катки и перекрывали путь мчавшимся с горы саням. При подлете саней к этому снежному укреплению у сидящих, в летящих санях со страшной скоростью санях, вызывало сумасшедший страшный визг, но сани, ударялись о снежное препятствие, разбивали его, осыпая сидящих снегом и радостным восторгом. Мы, малышня, бросали, в мчащихся на санях, снежками. Это нам доставляло также веселое удовольствие. Должен сказать, что хотя было и голодно, не было достатка, но жили на хуторе весело и дружно.
Весной, 1946 года, мама взяла себе огород, где мы посадили картошку, морковку, свеклу. Готовились к посадке кукурузы, помидор и огурцов. Уже в мае месяце, заканчивая посадку кукурузы, я маялся от усталости. Мама сказала:
— Перестань ныть, вот осталось пять рядков, закончим и пойдем домой. Возьми бидончик и принеси воды, да заодно посмотри папа там не идет?
Так, может быть, я и не пошел бы к роднику по воду, т. к. солнце уже было на закате, но при слове «папа» решило все. Я взял бидон и пошел к роднику. Набрал воды, потом забрался на дерево и посмотрел в сторону станции, куда уходила от хутора дорога. Солнце огромным красным диском уже касалось западного горизонта. На этом диске вдруг появилась какая-то фигура. Я быстро спрыгнул с дерева и побежал к огороду, расплескивая воду из бидона.
— Мама, мама закричал я, — там папа идет.
— Не сочиняй, — сказала сестра, — он в письме написал, что в конце июня или в июле будет. Тебе ясно было сказано. Болтун, расчирикался, как сорока. Лучше бери кукурузу и кидай в лунки, а то солнце уже садится.
Мама бросила лопату и побежала на косогор посмотреть, так как огород был ниже, и вся дорога не просматривалась. Сестра тоже не выдержала и побежала за мамой. Мне ничего не оставалось, как последовать за ними. Когда я поднялся на косогор, то увидел, как мама и сестра кого-то обнимали. Подбежав ближе, запыхавшись, я увидел, что это действительно папа с двумя чемоданами. Посадку быстро закончили и отправились домой. Домой мы пришли, когда совсем было темно. Приезду папы были рады не только мы, но и бабушка Маруся. Она ждала нас, поэтому нажарила картошки, а тут появился и мой папа. Бабушка Маруся всплеснула руками, побежала в погреб и принесла соленых помидор и огурцов, прихватила бутылку, где плескалась какая-то жидкость.
— Это я берегла к твоему приезду, Иваныч. Пусть хоть мне не повезло, так хоть у вас пусть все благополучно сложиться.
Она всплакнула, но после двух чарок она сильным женским голосом затянула песню.
— Помогай, Кузьминична. — Мама подхватила. Мелодия красивой русской песни, на два голоса, полилась по сумеречным закоулкам хутора. Мы праздновали благополучное возвращение твоего деда Вани с фронта.
Мой дед Рубченко Иван Иванович 23.02.1903 г ст. лейтенант ветеран Великой Отечественной войны.
Страницы Отцовского Дневника
Война, начало
Глава 1.
Наступил 1941 год. Папа говорил про какого-то Гитлера, а мама иногда, тайком плакала. Дом наш нужно было ремонтировать, так как протекала крыша, поэтому мы перешли на другую квартиру ближе к реке Донец.
Была ранняя весна, тепло. Мы уже во всю купались, хотя был только конец апреля. Как-то мы возвращались с Донца, накупавшись так, что глаза вылезали из орбит. Мы, а это я, дочь хозяйки Машка, где мы снимали квартиру, еще соседские мальчишки и девчонки. Машке было приказано смотреть за мной неустанно. Она не давала мне покоя. Ей нравилось мной командовать. Хотя я возмущался, но слушался. Иначе, без неё на речку меня не отпускали. Большие мальчишки уже стали покуривать. Машка зашумела и сказала:
— Дай мне попробовать! — Я тоже повторил за Машкой:
— И мне!
— Тебе нельзя, ты еще маленький.
Вот этого перенести было нельзя. Я заверещал. Чтобы я замолчал, то дали попробовать и мне. В голове сразу зашумело, закружилось, стало тошнить. У Машки от курева открылась рвота. Все испугались и разбежались по своим домам. Мы вернулись с Машкой домой. Дома заметили, что с нами что-то не так. Сразу стали меня пытать. Естественно, я все рассказал, обливаясь слезами. Машку её мама отметелила, а моя мама меня пожурила, но сказала :
— Сыночка, больше так не делай, не кури.
Такое серьезное, спокойное отношение ко мне настолько на меня подействовало, что со мной разговаривали как со взрослым, то я тоже ответил:
— Х-х-хорошо, мама, я больше не буду. — Так до сих пор я не курил и не курю.
Наступил жаркий июнь. Взрослые были какие-то хмурые и мрачные, говорили о какой-то войне, что к нам идет немец. Я попытался уточнить, когда он придет, но на меня зашикали и этот вопрос больше никогда не поднимал. Бабушка, Акулина Александровна, папина мама, второй год жила у нас. Вдруг, и она, куда-то засобиралась уезжать. Мама ее отговаривала. Убеждала ,что ей одной с детьми будет трудно. Папа молчал, а бабушка не соглашалась оставаться. Как-то раз, я с ней пошел, как она говорила, сниматься с учета в паспортный стол. Был мрачный серый день, холодный ветер, после дождя, гонял по улице сорванные плакаты. Зайдя с бабушкой во двор, я увидел кучу мусора и бумаги, гоняемые ветром по двору. В углу двора на большом щите огромный плакат Бабушка перекрестилась, Я спросил:
— Кто это, бабуш?
— Сатана — ответила бабушка.
— Какая? — переспросил я.
— Гитлер, — и молча пошла к ступенькам крыльца, по которым поднимались и спускались люди.
Бабушка оставила меня один на один с Гитлером, а сама пошла, сниматься с учета. Я внимательно рассматривал огромный плакат. Ничего особенного в нем не было, если не считать, что художник изобразил его с необычной прической. Волосы были зачесаны налево и свисали длинными прядями к носу, прикрывая левый глаз. Не знаю, сколько была бабушка долго или нет, но я стоял, как прикованный и не заметил, как бабушка подошла ко мне, взяла за руку и сказала:
— Пошли.
Мы вышли со двора и направились домой. Придя домой, бабушка стала собирать свой чемодан к отъезду. На следующий день она уехала, несмотря на то, что мама очень упрашивала ее не уезжать. Папа уже какой день не появлялся дома. Только через неделю он появился дома весь заросший, хмурый, уставший и сразу лег спать. Мама не разрешала мне заходить в комнату, где он отдыхал. Мне так хотелось забраться к нему и громко спросить:
— Поедем на р-р-рыбалку?
Меня не столько интересовала рыбалка, а сколько то, что пока папы не было, я научился выговаривать букву «р». Солнышко уже пыталось скрыться за холмом, как вдруг проснулся папа. Я обрадовался, но он обнял меня и сказал:
— Подожди, сынок, мне нужно поговорить с мамой.
Они разговаривали тихо, мама плакала, но потом стала собираться.
— Много не бери, бери только необходимое, — сказал папа и уехал.
Я не понимал, что происходит. Шел мелкий осенний дождь. Утром было сыро и холодно, но меня стала одевать сестра. Мама приготовила завтрак. Только усадили меня за стол, как подъехал папа на подводе с дядей-кучером. Мама спросила:
— Куда ехать? — но папа уже с крыльца крикнул:
— Кузьмич знает, — а сам уже закрывал калитку, выбегая со двора.
Через несколько минут вышли и мы. Мама несла большой узел и корзину, а сестра — небольшой узелок и вела меня за руку. Выйдя за калитку, я увидел красивых лошадей и новую бричку с кибиткой от дождя. Кучер Кузьмич спрыгнул с брички и быстро подбежал к нам, чтобы помочь. Взял у мамы узел и корзину, аккуратно уложил их в кибитке. Потом подошел ко мне и громко произнес:
— Ну что, казак, поедем?
Не успел я моргнуть и глазом, как Кузьмич поднял меня на руки и усадил в кибитку. Точно так же он усадил мою сестру и помог маме взобраться к нам. Мы тронулись в путь, как в неизвестность. Устроившись поудобнее, я стал засыпать и скоро уснул. Не знаю, долго я проспал или нет, но проснулся от тяжести полушубка Кузьмича, которым я был укрыт и яркого солнца, бившего в лицо. Дождя не было. Открыв глаза, я увидел, что мы проезжаем через какую-то станицу. За станицей остановились у родника. Кузьмич напоил лошадей, спросил у мамы:
— Снедать будем? — На что мама ответила:
— Нет, поехали, перекусим по дороге.
Мы двинулись дальше. Ехали очень долго. Солнце закатилось за горизонт. Стало темнеть. Остановились на ночлег. Кузьмич развел костер, чтобы вскипятить воду и попить горячего чая. Заканчивая вечерить, вдруг услышали какой-то надвигавшийся гул. Кузьмич стал быстро гасить костер. Это фашистские самолеты летели бомбить отступающие наши войска. Стало страшно, гул нарастал, но темнота была такая, что в двух шагах ничего не было видно. Кузьмич пошел навстречу гулу, но мама его попросила, чтобы он далеко не уходил. Наши лошади тоже заволновались. Одна из них заржала. Кузьмич, возвращаясь к повозке, сказал:
— Кажется, табун идет. Не наш ли?
Неожиданно около повозки из темноты вынырнул силуэт всадника и глухим голосом спросил:
— Кто такие?
— Иваныч, ты что ли? — спросил Кузьмич.
— Кузьмич? Как вы тут оказались?
— Папа! — закричала моя сестра.
Да, действительно, это был мой папа, твой дед Ваня.
Глава 2.
По решению Госкомитета Обороны весь крупнорогатый скот, лошадей и всё, что можно угоняли табунами за Волгу. Одной из таких операций руководил и твой дед Ваня. Он подъехал к бричке, поднял меня к себе в седло, спросил:
— Ну что, сынок, как делишки?
Я обхватил своими детскими ручонками его шею и крепко прижался к нему. От папы пахло степью, гарью и конским потом. Я был горд и счастлив, что встретил папу и что мой папа командир и на коне верхом. Папа поставил меня опять в бричку, слез с коня, подошел к маме, обнял ее и мою сестру, поздоровался с Кузьмичом за руку, спросил у него:
— Как вы тут оказались? — на что Кузьмич ответил:
— По шляху там людно, быстро не разгонишься, да и немец часто беспокоит, своими «Юнкерсами», а тут, вроде, поспокойнее.
— А теперь, как пойдете? — спросил папа.
— Да на Калач, наверное, там надо переправиться, — ответил Кузьмич.
Этот разговор я уже слышал сквозь сон. От встречи с папой мне стало теплее и спокойнее, и я заснул. Проснулся от шума. Выглянул из кибитки, увидел маму, которая стояла у костра, и папу, который уже сидел в седле огромного и высокого жеребца, готового сорваться в галоп, но папа его сдерживал. Папа что-то говорил маме, но было не слышно, лишь обрывки отдельных фраз долетали до моего детского уха.
— Как закончу, сдам табун, разыщу вас!
Папа попрощался с нами и табун тронулся в путь, а это около 500 голов лошадей и два гурта коров и молодняка бычков. Табун уходил вдаль донской степи. Мама и сестра плакали, и у меня тоже, почем-то капали слезы. Кузьмич перекрестил уходящий табун и произнес:
— И нам пора ехать.
Мы тронулись. Когда солнце показывало полдень, остановились. Кузьмич кормил и поил лошадей. Когда лошади и мы подкрепились, немного отдохнули, тронулись дальше. Подъезжая к Калачу, где мы решили переправиться, было видно, что сотни беженцев, колонны войск двигались к переправе. Переправа находилась левее, километров в десяти от города Калач-на-Дону, Сталинградской области. Видны были клубы и столбы черного дыма над городом Калач. Город бомбили немецкие самолеты. К вечеру мы еле пробились к переправе и остановились метров в трехстах от нее. Кузьмич, окинув обстановку, заявил:
— Да, тут нам не переправиться.
И, действительно, охрана переправы никого не подпускала ближе 150 метров, а какой-то маленький военный, перетянутый ремнями зычным, голосом кричал:
— Я комендант переправы, пристрелю любого, кто нарушит приказ.
— Кузьминишна, — сказал Кузьмич, — иди к коменданту, покажи документы и пусть переправит, ведь дети же… Кузьмич не договорил, умолк и стал поправлять сбрую у лошади.
Мама пошла и вскоре вернулась с каким-то дядей военным, в котором мы узнали дядю Сережу-старшего лейтенанта, ночевавшего у нас с группой офицеров, отступавших через станицу Белая Калитва.
— Я договорился с комендантом, показал ему ваши документы и он обещал завтра рано утром, когда войск не будет, он вас переправит.
Ночь показалась длинной и холодной. За косогором, правее от переправы, фашистские самолеты опять бомбили, было видно зарево пожара и запах едкого дыма. Тянуло сыростью от реки Дон. Забрезжил рассвет. На траве лежал иней. Мама и Кузьмич, наверно, не спали всю ночь. Они стояли подле брички, и Кузьмич говорил:
— Гляди, гляди Кузьминишна, что деется.
Слева послышался гул. Это немецкие самолеты шли бомбить переправу и город Калач, и тех кто там оборонялся. Мама, немного подумав, отвела взгляд от немецких самолетов. Вся сжалась, то ли вспомнила предыдущие бомбежки, то ли от холода и тихо сказала:
— Поехали домой.
Мы двинулись на северо-восток по Донской степи, по степным дорогам и проселкам, какие были известны только Кузьмичу. Мы пробирались через степь с опаской, боясь встретится как с фашистами, так и с грабителями. И те и те были опасны. Фашисты, в первую очередь, убивали коммунистов, их семьи, а так же евреев, партизан, цыган и всех, кто им не нравился.
Немцы, оккупация
Глава 1.
Зима прошла, как-то незаметно, как и наступившая весна 1942 года. Вновь заговорили о приближении немецких войск, но мы уже никуда не двигались. Мама решила, будь что будет. Беженцы, которые останавливались на ночлег, рассказывали о зверствах и грабежах фашистов, кто-то уходил, а мы остались. Думали, пронесет, но не пронесло. В один из летних дней, мы увидели, за рекой разъезжали машины фашистов. На следующий день, во второй половине дня, в станицу стали въезжать большие фашистские машины.
Станица, как бы, вымерла. Калитки дворов наглухо закрыты. Лишь станичные собаки отводили свою собачью душу. Потом многие из них поплатились. Фашисты безжалостно их расстреливали. Женщины двора прятали вещи, ведра, посуду. Посуду поместили в большой металлический бак и опустили на дно колодца. Ведра просто бросали в колодец, они тонули и не было видно, но бабушка Лиза в спешке бросила свое ведро и оно не потонуло. Немцы-кавалеристы искали ведра и воду, чтобы напоить своих лошадей. Заглянули в колодец, там плавает ведро. Быстро его выловили, а когда присмотрелись, то увидели, что на дне колодца что-то белеет. Выловили бак с посудой и все потопленные ведра. Немного осмелев, мы с Машкой выглянули на улицу. Соседские мальчишки ватагой куда-то бежали.
— Куда вы, пацаны? — спросила Машка.
— Айда на речку, там немцы машины моют, — прокричал соседский Колька Гаврошев, по кличке Гаврош.
Мы с Машкой помчались следом. Добежав к реке, увидели, что немцы, на том месте, где мы купались, мыли свои машины. Уличная пацанва уселась на стене разбомбленной хаты, стоявшей у реки, и наблюдали. Немецкие солдаты, работали с азартом, весело, напевая свои немецкие мелодии. Кто уже помыл, уезжал, другие подъезжали.
Вдруг к воде стала спускаться огромаднейшая машина с длинным и высоким закрытым кузовом. Из нее вылез, такой же, огромный, высокий и толстый немец-шофер. Он открыл заднюю дверь своей машины. Нашему взору открылось все, что находилось внутри кузова. Это была, как потом мы поняли, походная кухня. Чего только в ней не было: топоры, ножи, черпаки разных размеров и сортов. Немец стал все это мыть. Увидев, что мы за ним наблюдаем, он снял очередной огромный алюминиевый черпак с деревянной ручкой, резко повернулся в нашу сторону и, изобразив, что у него в руках оружие, громко прокричал:
— Пах, пах, пах.
После такой выходки немца мы, как горох, посыпались со стены, где сидели. Немцы, наблюдавшие за этой картиной, громко расхохотались. Шедшая мимо старушка прокричала:
— А ну, лихоманцы, геть отселя, пока вас тут не перестреляли, как горобцов.
Я увидел свою сестру Клаву, которая шла к купальне и искала меня. Забрав меня, мы отправились домой. Войдя во двор, я увидел, что во дворе уже хозяйничали немцы. Двое стояли с автоматами около стены дома. Трое в саду рвали яблоки, остальные брали воду у колодца.
По ступенькам крыльца спускался немец с ведром, которое до этого стояло на крыльце с питьевой водой. Моя мама хотела выхватить это ведро, схватилась за его дужку. Немец не отдавал, На помощь маме подбежала соседка. Завязалась потасовка. Вода выплескивалась из ведра и обливала всех вокруг. Старший немец в трусах вскочил со ступенек и сердито по-немецки что-то сказал. Немец отпустил ведро, поправил быстро на своем плече винтовку и быстро ушел.
Старший немец стал объяснять, что немецкие солдаты не изверги, что им тоже нужны ведра, чтобы носить воду для себя и своих лошадей, но женщины не унимались. Тогда, почему-то у немца лицо стало вдруг злым и он своей дубиной, на которой вырезал узоры, стал сбивать головки цветов. Это еще сильней возмутило женщин двора. Немец понял, что он делает глупость, прекратил косить палкой цветы, насвистывая какую-то незнакомую мелодию, вышел со двора.
На следующий день мы пошли на свой огород, где весной посадили картофель, кукурузу и другие овощные культуры, чтобы хоть как-то прокормиться. Пришли на огород увидели, что картошка выкопана, кукуруза выломана, а огород имел жалкий вытоптанный вид. Послышался гул. Мы увидели, что со стороны солнца заходили самолеты на бомбежку. Мы спрятались у каменной огородной стены в кукурузе. Мама и сестра сняли белые платки, которыми были подвязаны, чтобы не так было заметно с воздуха. Наш огород находился около шляха, по которому двигались немецкие войска. Первая бомба разорвалась почти рядом. Веер осколков пролетел над головами. Комья земли от взрыва посыпались на нас. Я заплакал. Мама прижала меня к себе. Сестра почему-то начала креститься и кричать:
— Мама! Мне страшно.
— Тихо, тихо, мои деточки, а то немцы услышат.
Отбомбившись, самолеты уходили на северо-восток. Мы быстро собрались и побежали домой. Дома тоже нас ждала неожиданность. Утром, перед уходом на огород, мама сварила борщ с последней курицей, которая у нас оставалась. Кастрюлю поставили на окно, чтобы остывала. Войдя во двор мы увидели, что окно, где стояла кастрюля, было выставлено и из кастрюли исчезла курица. Хозяйка сказала, что заходили румыны и грабили все, что можно было взять. Утром следующего дня, по дворам ходили полицаи с немецкой охраной и переписывали всех. Немец в очках что-то записывал. Один из полицаев, показывая на маму и нас с сестрой, сказал:
— А это, семья коммуниста.
— Коммунистен? О! Корошо, — ответил немец в очках и что-то пометил в своем журнале.
Полицаи ушли, а мы томительно ждали, когда за нами придут. На следующий день по дворам ходил один из полицаев, но опять с немецкой охраной и оповещал, что все завтра должны выйти на работу, кто не выйдет будет наказан. Как наказан, он не пояснил, и никто не спросил, в чем будет выражаться наказание. Утром все взрослые пошли на работу, а мы с сестрой остались дома. После работы все пришли, а мамы почему-то не было.
Оказывается, она заходила в Управу, как теперь называлась местная власть, чтобы взять справку на выезд, к своим родным, на хутор Ерофеевку. Ей сказали, что мы тебе дадим вот такую справку и показали на окно. За окном, на акации, висела повешенной семья евреев: муж, жена и трое детей. Мама, после всего увиденного, не могла прийти в себя, ее колотило, она плакала и сильно меня целовала и прижимала к себе. Ее успокаивали соседка и хозяйка дома.
Глава 2.
Каждый день маму гоняли на работу: то на рытье окопов, то на уборку урожая. В один из таких дней на уборке винограда к маме подошел старичок и тихонько заговорил:
— Дарья Кузьминична, ничего не слышно от Иваныча?
Мама подозрительно на него посмотрела.
— Не пугайтесь. Вы меня не знаете, но зато я вас знаю, очень хорошо знаю вашего мужа. Мы все его помним. Золотой человек. Когда будет перерыв, и пойдете пить воду, то зайдите вон в ту будку.
Он указал взглядом на кусты, где почти незаметно разместилась небольшая будка в виде шалаша.
— Я сторожем здесь работаю.
Он тихонько, как и подошел, незаметно удалился. Об упоминание, о папе моей маме стало не по себе. У нее, от постоянного недоедания, закружилась голова. Она присела рядом с корзиной, в которую клала сорванный виноград. К ней сразу подошел надсмотрщик и грубо ударил ее плеткой по спине.
— Ну что, большевичка, отвыкла от работы? — подошедший полицай ударил ее ногой в бок. Мама упала рядом с корзиной.
— А ну, пошевеливайся, краснопузое отродье, — продолжал полицай, ударив маму еще раз плеткой.
От удара плеткой горела спина, на ноге выступила кровь. Мама поднялась, шатаясь и хромая, пошла вдоль ряда виноградника. Послышался звон от ударов по рельсе, которая висела около домика, стоявшего около будки сторожа. Сторож сидел на лавочке рядом с будкой и что-то строгал. Увидев маму, он засуетился и потом спросил:
— Что, опять били?
— Да, — тихо ответила мама, — ни днем ни ночью покоя нет.
— Я вот по этому поводу и хотел поговорить. Вон видишь, около леса, стоит одинокая хата, там когда-то хранили ульи. Теперь она пустует. Ночью, чтоб меньше кто видел, переберитесь туда. Немцы там не появляются, боятся партизан. Там вам будет спокойнее. А пока полицаи будут вас искать, то нужно за это время уехать. Есть у вас родственники, а то здесь вас порешат.
— Да, есть у меня родственники в Ерофеевке.
— Я знаю, где это. Когда-то я работал в Самбуре и часто бывал в тех местах.
Сторож рассказал маме, как лучше добраться в Ерофеевку.
Вечером, еще не успели мы уснуть, как в дверь громко застучали. Грубый голос полицая разрезал тишину лунной ночи.
— Открывай, комиссарская тварь.
Мы с сестрой заплакали. Хозяйка запричитала:
— Господи, Кузьминична, уйдите, ради бога, от нас, а то от вас и нам покоя нет.
Мама медленно прошла по залитой лунным светом комнате в коридор. Было слышно как она открывала дверь. Полицаи свирепствовали, мама вышла на крыльцо. Свет луны расплескал свои бледные голубые блики по всему двору. Было видно, что около ступенек крыльца стоял немецкий солдат с автоматом, а трое местных полицаев были на крыльце.
— Ты связана с партизанами? Признавайся, — закричал один из полицаев, пытаясь схватить маму за косу. Но она резко оттолкнула пьяного полицая от себя. Полицаи стали ее избивать. Мы опять закричали и заплакали. Хозяйка стала заступаться, но ей тоже перепало от распоясавшихся, озверевших от самогона полицаев. Спустившись с крыльца, они собрались уходить. Один из них сказал:
— Завтра мы с вами покончим.
Хозяйка опять запричитала:
— Все, Кузьминична, через вас и нас порешат. Уходите, ради бога.
Мама, вытирая слезы и кровь, стала собираться. Взяв только необходимое и один небольшой узел, одев меня, сестра моя уже оделась сама и помогала маме. Поблагодарив хозяйку, мы тихонько вышли со двора. Луна уже заходила за горизонт и надвигалась темная осенняя ночь 1942 года.
До леса мы добрались без происшествий. Никто нас не видел. Где-то далеко, на окраине, слышен был лай уцелевшей собаки. Мы подошли к хате, одиноко стоявшей около леса. Луна давно уже зашла за горизонт, наступила кромешная темнота. Мама потянула дверь хаты на себя. Она страшно заскрипела. Я испугался и захныкал. Мама меня успокоила. Зашли в хату. Мама легко ориентировалась в темноте. Она после работы, когда все ушли домой, вернулась и все посмотрела заранее. Она усадила меня на какой-то топчан, стоявший в углу комнаты, постелила одеяло, уложила меня, накрыла своей вязаной кофтой и я уснул. Проснулся я от утренней осенней прохлады. Открыв глаза, не мог сообразить, где нахожусь. У противоположной стены было два окна, но они были закрыты снаружи ставнями. Через ставни пробивался солнечный луч, пересекающий всю комнату до топчана. Где я лежал. Темнота и этот лучик света показался мне такой жутью, что я захныкал.
— Тихо, — шепотом сказала сестра, — а то полицаи придут.
— Мама, — запищал я.
— Нет мамы, замолчи, а то немцы услышат.
Присмотревшись в темноте, я увидел, около топчана, на поломанной табуретке две вареные в мундирах картошины. Сестра предупредила:
— Все не ешь. Это нам с тобой на три дня.
— Почему на три? — переспросил я, — а мама?..
Сестра перебила меня, уже рассержено, ответила:
— Мама, мама, заладил. Нет мамы, через три дня придет, Молчи.
Стало страшно, я замолчал, накрылся с головой. Мне казалось, что так никто меня не увидит.
Глава 3.
Мама, в ту же ночь, как мы перебрались в хату, стоявшую около леса, ушла в Ерофеевку. Шла она, в основном, ночами, скрываясь и от своих и от немцев, а днем отсиживалась в оврагах и перелесках. Через три дня мама появилась и тихо постучала в дверь. Сестра не открывала.
— Доча, это я,-тихо произнесла мама.
Сестра быстро открыла. Мама забежала в хату, закрыв за собой дверь на запор.
— Ой, мои деточки, милые, как вы тут без меня были?
Она развязала принесенный с собой узел, достала пахучий домашний хлеб, сало, яблоки, виноград.
— Виноград я уже здесь сорвала, у себя, где убираем. Ешьте, мои хорошие. Это бабушка вам гостинчик передала.
Не знаю, много ли времени прошло, но точно знаю, что наступили холода. Морозным, ранним утром за нами приехали на арбе, запряженной быками, наполовину загруженной свежей соломой. Приехали мамин брат Андрей и моя тетя, тетя Таня. Дядя Андрей был инвалид детства. Одна нога у него была крива, поэтому его в армию не призвали. Еще было темно, но быстро погрузились, хотя и грузить то было нечего. Меня с сестрой зарыли в солому посредине арбы.
— Все? — спросила тетя Таня.
— Все,-ответила мама,-с богом.
— Цоб, цабе, — тихо скомандовал, дядя Андрей быкам и арба заскрипев, тронулась.
Стояло тихое морозное утро. Мороз щипал за уши и нос. У меня замерзли ноги. Я стал хныкать. Сестра на меня зацыкала:
— Замолчи! Цыц, а то немцы услышат. У меня тоже ноги мерзнут, шевели пальцами.
Я стал двигать пальцами, стало легче, но все равно ноги мерзли. Боязнь того, что немцы нас могут остановить и не пустить, а то и расстрелять, заставляло меня терпеть. Рассвет холодного утра только зачинался, а мы ухе проезжали центральную станицу соседнего района. Пошла мелкая изморось, которая сразу замерзала, отчего дорога сделалась скользкой. Проехали станицу, стали подниматься на косогор.
— Сейчас перевалим через бугор и мы считай дома, в безопасности, там пойдем степью, — запыхавшимся голосом произнес дядя Андрей. Как будто не быки, а он сам тащил арбу. Да, ему было очень трудно на одной ноге поспевать за быками. Все это время никто из них не садился на арбу, шли рядом, а когда быкам было трудно, помогали, толкая арбу сзади. Но здесь произошло то, чего никто не мог предположить. Изможденные, уставшие быки скользя и падая не могли вытащить арбу на крутой косогор.
Дав чуть отдохнуть своим быкам, мы тронулись в путь. Чем дальше мы продвигались на юго-восток, к Ерофеевке, тем туман рассевался, изморось прекратилась, дорога перестала быть скользкой. Не знаю, долго мы ехали или нет, но мой голод перешел в слабость, а потом в сон. Проснулся я от шороха в соломе. Меня раскопали в соломе, вытащили из арбы. Вокруг уже стояла темнота, арба находилась в каком-то дворе и какая-то бабушка причитала:
— Божеш ты мой, да что ж это такое за страдание, — увидев, как меня, скрюченного, вытащили из соломы, — Давайте быстрее в хату.
Вошли в хату. От яркого света керосиновой лампы, стоявшей на столе, я закрыл глаза.
— Ты чего, сыночка, — сказала мама, ставя меня на пол, — Слава богу добрались благополучно, Это твоя бабушка Анюта. Это твой дедушка Кузьма, мой папа. Это тетя Мариша, дяди Андрея жена, а это его дочери, твои сестрички: Анна, Маруся и Катя. Дедушка сказал:
— Давай корми быстрей, бабка, а то они проголодались.
Действительно, я был голодный, но, поев чуть-чуть борща с бараниной, попив молока, которого долго уже не пил, да еще с пахучим, вкусным, белым домашним хлебом, ушел спать. Спать меня уложили на печке, где было тепло, удобно, просторно. Я быстро уснул под говор взрослых, которые долго ужинали, разговаривали за столом. Утром проснулся я поздно. В хате опять было тепло и уютно. Бабушка возилась у печки. Дедушка принес дрова.
— О, проснулся, казак! — произнес дедушка, увидев меня сидящего на печке, -а на улице зима. Вставай, ешь и, айда, кататься на санках.
Посмотрев в окно, я действительно увидел, что все белым-бело от выпавшего за ночь снега.
Глава 4.
Пришла зима 1942-43гг. Через месяц немцы дошли и до Ерофеевки, но нас там мало кто знал, поэтому никто не трогал и не беспокоил. Основные немецкие части прошли через Ерофеевку не останавливаясь, а через некоторое время в хутор вошли тыловые подразделения-обозы немецких войск. Это были, в основном, подводы, груженные всякой всячиной: вещевым имуществом, обмундированием, ящиками с оружием, снарядами и другим военным снаряжением. Немецкие солдаты были, в основном, пожилые. Одним словом, тыловые части.
Нас выселили. В одной комнате немцы разместили штаб. В другой, наносили соломы и немецкие солдаты спали там на ней. Я как был на печке, так там и остался. Меня никто не трогал. Один немец по возрасту моложе других, сносно объяснялся по-русски. Он спросил у меня, как меня зовут. Я ответил:
— Феликс.
— О! — воскликнул немец, — Филакс!
— А как тебя зовут? — спросила бабушка немца, возясь у печки.
— Меня? — переспросил немец.
— Да, тебя, — спросила бабушка.
— Мея зовут Ганс, — он вытащил из кармана фотографию и показал бабушке, — это моя семья.
— А, семья, — повторила бабушка, посмотрела фото его семьи и вздохнув, молча вернула ее Гансу.
— Филакс, корош, — показывал на меня Ганс.
Здесь его позвали, и он вышел на улицу. На следующий день он принес огромную аллюминевую чашку, которая была вымазана каким-то темным составом, как дегтем. Он поставил эту чашку передо мной и говорит:
— Ам, ам!.
— Я не знал, что делать и как поступить.
Девчонки, мои сестры Мария, Екатерина, Клавдия набросились на чашку и выгребая руками темно-коричневую массу отправляли ее в рот. Я с опаской пальцем попробовал на вкус смесь и понял, что это остатки повидла. Моя медлительность привела к тому, что мне мало досталось.
Немцы, которые находились в Ерофеевке и те, что были у нас на постое, особо не докучали. Утром, они, куда-то уезжали и возвращались к вечеру, а то и вообще не возвращались. Через месяц в средине декабря они спешно, куда-то засобирались. С северо-восточной стороны хутора, где-то далеко слышен был гул и раскаты, как гром, а по вечерам полыхало зарево. Когда бабушка спросила Ганса, что это такое, то он уклончиво ответил:
— Да, это наши войска громят партизан.
По состоянию и действиям немцев было видно, что происходит, что-то не так. Тем более, неделю тому назад, когда дедушка пошел кормить вечером корову, то около стога, где он брал сено, услышал шорох и какой-то шепот.
— Кто там? — спросил дедушка.
Из темноты появился человек в белом маскировочном халате.
— Здорово, дедуля, немцев в селе много?
— Наши! — чуть не закричал дедушка.
— Тих, дедуля. Не шуми.
— Нет, мало немцев, обозники. Когда вас то ждать, — взволнованным голосом спросил дедушка Кузьма.
— Скоро, дедуля, скоро, — ответил боец.
К ним подошли еще трое, а остальные, не видно, сколько еще их было, скрывала темнота и маскхалаты.
— Немец не свирепствует? — спросил один из троих подошедших.
— Да нет, обозники же, — повторил дедушка.
Через день штаб, находившийся в одной из комнат хаты дедушки Кузьмы, стал спешно грузиться к отъезду. Немецкие солдаты таскали тяжелые ящики и грузили их на свои подводы. Немецкий офицер, руководивший погрузкой, включил приемник, стоявший на столе. С огромного ящика полилась бравурная музыка.
Немцы уходили также неожиданно, как и появились. Почти неделю было тихо. Лишь с юго-востока слышен был гул и по ночам пылало зарево.
Наши, освобождение
Глава 1.
Наступали новогодние святки. Девчонки, мои сестры, гадали, когда выйдут замуж и кто будет муж. Я с соседскими пацанами бегал колядовать. Прошло Рождество, приближался старый Новый год. К дяде Андрею приходили мужики поиграть в карты и отведать самогоночки, которую он готовил по рецепту дедушки Кузьмы и усовершенствовал в процессе производства. Качественней самогонки на хуторе не было ни у кого.
Мою маму, тетю Таню, старшую сестру Анну и среднюю Марию погнали на рытье окопов полицаи. За хутором, уже третий день какая-то немецкая часть готовила оборону. Было около одиннадцати часов утра 14 января 1943 года. Светило январское солнце. Снег настолько ярко сверкал от солнечных бликов, что слепил глаза. Я сидел на печке, но было уже не вмоготу. Мужики настолько надымили самосадом, что нечем было дышать. Не успел я слезть с печки, как в хату прибежала Мария и жадно стала пить воду. За ней пришли мама, тетя Таня и Анна. Анна сразу стала возмущаться:
— Вам что тут, курилка? Ничего в хате уже не видно. Я только к празднику все поубрала, побелила. Мужики похватали свои шапки и стремительно высыпали на улицу, опасаясь, что и им может достаться. Дядя Андрей пытался возражать дочери и одернуть ее, но вошедший в хату деда Кузьма, поддержал внучку. Дядя Андрей умолк, допил самогон, оставшийся в его стакане и вышел на улицу.
— Вы че, сбежали с окопов? — спросил дедушка.
— Нет, — ответила Мария, — немецкие охранники ушли, а за ними разбежались и полицаи. Остался лишь Колька полицай. Он и дал команду, чтоб мы шли домой.
Тетя Таня тоже разделась, поправила свои пышные волосы, продолжила начатый разговор Марии.
— Я копала окопы с краю, где стояли часовые с полицаями и они разговаривали, что русские наступают и вот-вот могут появиться здесь.
— Скорей бы, — произнес дедушка Кузьма
Катька подошла ко мне и тихо сказала:
— Пошли, посмотрим, где наши.
Мы выбежали во двор и побежали на баз, где весной и в хорошую погоду выгуливали скот. На базу, кроме теленка и двух ягнят никого не было. Мы с Катькой стали подниматься по каменной стене, чтобы посмотреть, где наши. Только мы выглянули из-за стены, как услышали, что что-то прошуршало над головой. Это, оказалось, пролетел снаряд и разорвался за нашим садом. То ли от страха, то ли от взрывной волны пролетевшего снаряда, нас как смело со стены. Мы быстро побежали в хату.
Не успели мы раздеться, как во двор забежали три немца и побежали дальше к саду. По улице промчался танк. Мы даже не могли рассмотреть чей. За ним, но уже с меньшей скоростью, проскочил второй, с крестом на башне.
— Немцы, — вздохнул дядя Андрей, сидевший на лавке у окна. Потом, вдруг как закричал — Наши, наши, — и, ковыляя хромой ногой, выбежал на улицу, продолжая кричать:
— Наши! Родненькие, как мы вас заждались.
Танк остановился, открылся люк башни танка и вылез военный, спрыгнул с танка и забежал во двор, держа в руке пистолет. Сзади за ним бежали два бойца с автоматами. Бабушка зашумела:
— Андрей, вернись, не мешай людям, а то еще убьют.
Лейтенант вначале думал, что у нас немцы, но потом понял, спрятал пистолет в кабур и попросил:
— Дайте воды напиться. Карнаухов, Карнаухов! — позвал лейтенант. — Залей воды в радиатор!
— Есть! — по-военному ответил боец, забросил автомат за спину, схватил ведро с водой и побежал заливать воду. Лейтенант поблагодарил за воду и, как бы оправдываясь, произнес:
— Извините, но нам пора, — лейтенант пошел к танку, бойцы тоже пошли за ним, попрощавшись с моими сестрами. Дядя Андрей поковылял за ними, крича вдогонку:
— Спасители вы наши, родные!
Бабушка схватила его за рукав и не дала ему выйти со двора.
— Не мешай людям, не отвлекай их от дела.
Танк заурчал, выбросил черный дым, тронулся с места, резко пошел вперед. Мы все махали им вслед руками со слезами на глазах. Через дорогу с соседнего двора три наших солдата вывели долговязого немца и повели по дороге в сторону нашего колодца. Из калитки соседнего двора вышел дед Салов и говорит:
— Как он, лихоманец, мог поместиться под кадушкой, но кусок шинели был виден, вот солдаты его и обнаружили.
Раздалась автоматная очередь. Долговязый немец завалился на нашей дорожке, ведущей к колодцу. Теперь к колодцу по воду никто из девчонок не хотел идти. Дедушка Кузьма сходил к колодцу и принес ведро воды. Девчонки побежали в центр села, где валил черный дым. Горела хата. Ее зажгли фашисты, сделав дымовую завесу. Хату уже тушили. Девчонки подбежали и стали помогать таскать воду, чтобы потушить пожар. Солдаты помогали крутить ворот колодца, чтобы быстрей доставать воду. Мы с Катькой тоже прибежали, смотрели, что происходит. Солдаты угостили нас трофейными галетами.
Вдруг раздалась автоматная очередь, из соседних кустов, пули просвистели над головами. Девчонки завизжали и бросились врассыпную. Немцы хотя и организовали оборону хутора, но не ожидали, что прорыв и наступление частей Красной Армии будет именно здесь. Бой, по ликвидации группировки противника, организовавшей оборону хутора, длился недолго. Разрыв снаряда пришелся по глубокой канаве, проходившей за нашим садом. Там и залегли фашисты. После первого взрыва снаряда уцелевшие фашисты подняли руки вверх, показывая нашим танкистам, что они сдаются. Группировка противника, действующая в районе хутора, была частично уничтожена, остальная окружена и взята в плен.
Глава 2.
Развалив, половину саманной стены нашего забора, со стороны улицы, во двор ввалился Т-34. Командир танка, средних лет старшина с южнорусским говором сказал, что если мы не будем возражать, то они остановятся у нас на ремонт танка. Потом, кроме танкистов, заехала полевая ремонтная мастерская, машина-будка, потом еще машина с солдатами. Наш двор превратился в постоялый. Стоявшие на постое бойцы, угощали меня и девчонок трофейными галетами, шоколадом и всякой всячиной, а также учили меня частушкам. Этот процесс проходил в торжественной обстановке. Меня ставили на припичек возле печки, а сами рассаживались вокруг, в ожидании сногсшибательного номера. Когда я торжественно произносил:
— Здесь карманчик, здесь часы, здесь пол фунта колбасы, — демонстрируя это показом, то хохот стоял сумасшедший. Один из бойцов научил меня еще одной частушке про Гитлера. Внешне это выглядело вроде бы безобидно, но частушки я сопровождал жестикуляцией своих рук. Когда боец убедился, что репетиция прошла успешно, решили этот номер продемонстрировать вечером, при стечении большой публики: не только бойцов, стоящих у нас на постое, но и других, приходивших к нам в гости.
Когда вечером боец объявил, что сейчас будет исполнен коронный номер, все притихли. Я поднялся на припичек и на полном серьезе выдал новую частушку, красочно, для убедительности, показывая руками. Комната наполнилась грохочущим хохотом. Бойцы от смеха катались покатом. Вместе с ними хохотал и дядя Андрей. Дедушка Кузьма крутил свой седой ус, не зная как отреагировать, а бабушка Анюта три раза перекрестилась и произнесла:
— О господи, чавож ето деиться?
Моя мама прервала эту срамоту.
— Вы что?! Что ребенка всякой дурости и похабщине учите. Взрослые люди, еще бойцы называются.
Она взяла меня на руки и унесла в другую комнату, повторяя:
— Больше никогда этого не произноси, понял? Никогда.
— Понял, — ответил я, не понимая еще, что же произошло. Одни хохочут, а маме не нравится.
В комнату, где мы были с мамой, извинившись, вошел старшина и тихо сказал:
— Кузьминична, Вы не обижайтесь, пожалуйста. Какой с бойца спрос. А это вашему сыночку, он у вас отличный парнишка, — и поставил большой бумажный мешок, почти доверху наполненный трофейными печеньем и всякими сладостями. Я был рад, что столько много всего, а мама, почему-то заплакала. Старшина еще раз извинился и вышел из комнаты к своим бойцам. Слышно было, как старшина громко сказал:
— Карнаухов, твоя работа? — Карнаухов молчал, — я тебя накажу, рифмоплет.
Бойцы опять захохотали, а Карнаухов оправдывался:
— Товарищ старшина, так я ж, как лучше…чтоб… — но его слова опять потонули в хохоте собравшихся бойцов, которые все подходили и подходили, Казалось, что уже негде было упасть, но они умудрялись где-то все же разместиться. Кто-то принес трофейный патефон. Зазвучала мелодия душещипательного танго. Девчонок сразу расхватали на танец. Бойцы веселились от души. Молодость брала свое, как будто и не было войны.
На следующий день танкисты уехали испытывать танк после ремонта. Остальная часть бойцов, которые были, на машине попрощались, уехали совсем. После обеда танкисты вернулись, привезли с собой одичавшего кабана, каким-то образом уцелевшего и бегавшего по степи и оврагам. Бабушка, а ей помогали девчонки, стали варить в большом котле кулеш.
Не успели окончить варево, как налетели фашистские самолеты и стали бомбить. Две бомбы упали за нашей хатой и осколками посекли всю глухую стену. Остальные бомбы упали: одна за садом, другая в огороде, третья на лужайке за колодцем, а четвертая около клуни.
От взрыва этой бомбы у нас вылетели все стекла в окнах хаты, выходящих во двор. Дядя Андрей, сидевший на лавке у окна, был ранен разбитым стеклом. Из бойцов никто не пострадал. Старшина дал команду рассредоточить технику и замаскировать ее. Мы ушли к балке, за нашим садом, где стояла пустая хата, в расчете на то, что там будет спокойнее. К вечеру еще был налет фашистской авиации. Бомбили еще сильнее и дольше.
Вой пикирующих бомбардировщиков, взрывы бомб, стрельба зениток, мы и не видели их, а они были замаскированы в балке около хаты, где мы прятались. Девчонки визжали, я плакал, бабушка Анюта и мама молились, чтобы бомбы не попали в хату. После бомбежки, продолжавшейся около часа. Мы покинули заброшенную хату и пришли домой. Вернувшись домой и войдя в хату, бабушка Анюта произнесла:
— Слава богу живы остались. Больше никуда не пойдем, Хоть погибнем, так дома.
Ночью, со стороны станции Глубокой, горело, зарево и слышен был гул и грохот боя. Утром привезли раненых бойцов в госпиталь, который находился в школе. Раненых было много. Девчонки ходили, помогали врачам, санитарам и выздоравливающим бойцам. Через неделю все войска уходили вперед. Дедушка Кузьма провожал бойцов, сказал:
— Слава богу, погнали изверга. Ребята, удачи вам. Гоните его, лихоманца, не дайте ему вернуться.
После ухода бойцов хата опустела. Как-то стало тихо и тоскливо. Чувствовалось, что скоро наступит весна. За нашим домом в яму, воронку от бомбы сваливали снаряды и боеприпасы всех калибров, которые вывозили из клуба, где у немцев был склад. Я вышел посмотреть. Вокруг воронки стояли соседские девчонки и мальчишки такие же маленькие, как и я. Внизу большой пацан, старше нас, приехал в гости к соседям с хутора, расположенного за речкой. Его сестра, стоявшая у бруствера воронки шумела:
— Васька, не тлогай, дулак, я сейчас маме пойду, скажу
А Васька все равно продолжал гранатой сбивать блестящее кольцо со снаряда. Но оно не поддавалось. Васька, от усердной работы, остановился передохнуть, поднял голову, увидел на бруствере малышню, крикнул:
— А ну, улипетывайте отселя!
Малышня стояла не двигаясь.
— Ну! — опять крикнул Васька и замахнулся на них гранатой. Малышня побежала от бомбовой воронки, спотыкаясь и падая. Опять послышался лязг. Васька продолжал сбивать блестящее кольцо. Из-за нашей хаты вышла моя мама и позвала меня. Я не хотел уходить. Она уже строже пригрозила мне хворостиной. Я пошел к ней. Дойдя до угла своей хаты, грохнул взрыв. Мама от ужаса схватилась руками за голову. Я оглянулся и увидел, как черный дым и комья земли поднимались вверх. Мне тоже стало страшно.
— Вот видишь, как не слушать маму, — приговаривала она, толкая меня в спину.
Я бежал молча в хату, а в глазах стоял взрыв и голову сверлила мысль, что с Васькой? А Ваську вытащили из воронки, его брат и тетка, прибежавшие, услышав взрыв. Васька просил пить, держался за живот. Брат Васьки сбегал за санками, погрузили его на санки и быстро, бегом повез его за речку, на хутор, где Васька жил. Не доезжая до речки, Васька умер. Весь живот и грудь Васьки были побиты осколками. Левую ногу оторвало совсем. Этот случай подействовал на хуторских пацанов. Я тоже долго не высовывался из хаты.
Через день на хутор приехали солдаты-саперы. Они грузили бомбы и снаряды на машины и куда-то увозили. Когда закончили вывозить немецкие боеприпасы из клуба, пошли искать мины, гранаты и прочие боеприпасы по всем дворам, огородам и в поле. Анна и Мария, как и другие взрослые девчонки и мальчишки села ездили в поле помогали солдатам. В одну из таких поездок Мария привезла мне командирскую фуражку с большой красной звездой, а дяде Андрею винтовку с пятью патронами и бинокль. Я был очень рад подарку, но не меньше был рад и дядя Андрей.
— Есть теперь чем охранять сад, — повторял дядя Андрей, рассматривая свои подарки. Позже, участковый милиционер хотел отобрать эту винтовку, но дядя Андрей дал ему четверть самогону и тот отстал. Винтовка была до тех пор, пока не выстреляли все пять патронов, и бабушка Анюта заставила его сдать эту винтовку.
Хуторским уже стали приходить письма с фронта. Фронт ушел от нас далеко. Девчонки тоже получали письма от солдат, которые стояли у нас. От папы не было слышно ничего. Тетя Таня уговаривала маму написать запрос, с просьбой о его розыске, но мама не решалась.
Войне конец
Уже пошел 1945 год. Хуторяне готовились к весне. Собирались сеять, но семян, техники, быков, лошадей не было. Решали, как быть. Весна 1945 года была в разгаре. Шел второй год, после того как хутор, в январе 1943 года, освободили от фашистских захватчиков. Жители хутора Еорофеевка готовились к посевной. Третья, после оккупации посевная, была немного легче, потому что уже были и семена, и техника. Радость победы переполняла души как взрослых, так и детей. Взрослые работали в поле от зари до зари.
Ко дню освобождения хутора от фашистов, 14 января 1946 года, учительница разучивала с нами новую песню, мне запомнились такие слова песни: «Есть на Севере хороший городок…» Мы уже дружно горланили эту песню, но учительница старалась, чтобы мы не сильно кричали, а с выражением и душевно исполнили, особенно концовку песни. Многим это стало надоедать, но учительница сказала:
— Пока не исполним без запинки всю песню будем тренироваться.
Вдруг в дверь класса постучали, потом дверь приоткрылась, и кто-то позвал учительницу. Она подошла к двери, ей, что-то сказали, и дверь класса закрылась. Учительница, радостно улыбаясь, сказала мне:
— Собирайся и можешь идти, тебя за дверью ждут, а мы еще потренируемся.
Класс загудел, но учительница была непреклонной. За дверью класса меня ждала моя сестра Клава.
— Пойдем быстрее домой, — сказала она.
— А чего? — спросил я.
— Узнаешь, — улыбалась она, но не говорила.
Я приставал к ней всю дорогу, но она не говорила, а когда уже подходили к хате, а мы опять жили у дяди Андрея, то Клава не удержалась и сказала:
— Вот репей, пристал, папа наш приехал.
От такого известия я даже остановился. Меня пронзила мысль: «а как я его узнаю?».
Зайдя в хату, я увидел за столом сидящих двух военных. Моя мама подавала им тарелки. Вдруг один из военных, что помоложе, вскочил из-за стола с возгласом:
— Сынок, мой сынок! — подбежал ко мне, поднял меня на руки, крепко прижал к своей груди.
— Родной мой, — продолжал папа. Глаза его были радостные и чуть-чуть влажные. Он поставил меня на пол, быстро открыл свой небольшой чемодан, вынул из чемодана какой-то сверток и подал мне. В свертке были фонарик с цветными стеклами: белым, красным и зеленым стеклом, большую двухрядную губную гармошку и шоколад. Я был очень рад, а когда папа нажал на кнопку и фонарик загорелся, то я был в восторге.
Только сейчас я увидел, что на правом боку, на ремне у папы был настоящий пистолет, как потом мне сказал папа, назывался «ТТ». У другого военного солдата, который привез папу на двуколке с вокзала железнодорожной станции Глубокая, на ремне висел настоящий большой нож. Солдат поблагодарил за обед, пожелал папе приятного отдыха, быстро оделся и уехал опять на станцию, а папа обнял нас всех: маму, Клаву и меня, спросил:
— Ну, как вы тут поживаете?
Мама молча пожала плечами и расплакалась. Папа еще раз обнял нас и сказал:
— Ну не нужно, все уже позади, радоваться надо, война закончилась. Я вот привез в Москву литературу, которую напечатали в Берлине. Ее распределили по округам всей страны. Я выбрал Закавказский военный округ. Быстренько привез, сдал ее и скорей к вам на пару дней.
Папа пробыл у нас три дня и быстро уехал, сказав, что он скоро вернется. После его уезда дядя Андрей стал относиться к нам более дружелюбно и добрее. Перестал требовать от мамы денег на выпивку, сделал мне коньки, на которых я научился кататься. Смастерил настоящий лук со стрелами, которые пробивали многослойную фанеру и тонкую доску. Такого лука ни у кого не было. Но такое добродушие продолжалось недолго. Через месяц, опять начались споры, ругня, незаконные домогательства по поводу нашего проживания. В конце марта мы собрали свои пожитки, и ушли на квартиру.
Хутор Ерохин, как его иногда называли, готовился к рождественским святкам. Моя сестра, с подругами, гадали на своих суженных. Мы, я Мишка и другие пацаны с нашей улицы, готовились к щедрованию, колядкам и другим рождественским и новогодним торжествам и обрядам. После щедрования нас угощали варениками с картошкой, творогом и коровьим маслом, кое-где одаривали денежной мелочью. Закончив щедровать, катались на санках с горы. Когда становилось совсем темно, выходили взрослые, молодежь, вытаскивали за дышло на гору большие сани, на которых возили на поля навоз, загружали эти сани немного соломой, чтоб удобно было сидеть, в сани садились девчонки, парни, нас маленьких не брали. Шум, визг, веселье стояли неописуемые и с таким криком спускались с горы.
Радость была необыкновенная. Внизу горы мы из снега катали большие снежные катки и перекрывали путь мчавшимся с горы саням. При подлете саней к этому снежному укреплению у сидящих, в летящих санях со страшной скоростью санях, вызывало сумасшедший страшный визг, но сани, ударялись о снежное препятствие, разбивали его, осыпая сидящих снегом и радостным восторгом. Мы, малышня, бросали, в мчащихся на санях, снежками. Это нам доставляло также веселое удовольствие. Должен сказать, что хотя было и голодно, не было достатка, но жили на хуторе весело и дружно.
Весной, 1946 года, мама взяла себе огород, где мы посадили картошку, морковку, свеклу. Готовились к посадке кукурузы, помидор и огурцов. Уже в мае месяце, заканчивая посадку кукурузы, я маялся от усталости. Мама сказала:
— Перестань ныть, вот осталось пять рядков, закончим и пойдем домой. Возьми бидончик и принеси воды, да заодно посмотри папа там не идет?
Так, может быть, я и не пошел бы к роднику по воду, т. к. солнце уже было на закате, но при слове «папа» решило все. Я взял бидон и пошел к роднику. Набрал воды, потом забрался на дерево и посмотрел в сторону станции, куда уходила от хутора дорога. Солнце огромным красным диском уже касалось западного горизонта. На этом диске вдруг появилась какая-то фигура. Я быстро спрыгнул с дерева и побежал к огороду, расплескивая воду из бидона.
— Мама, мама закричал я, — там папа идет.
— Не сочиняй, — сказала сестра, — он в письме написал, что в конце июня или в июле будет. Тебе ясно было сказано. Болтун, расчирикался, как сорока. Лучше бери кукурузу и кидай в лунки, а то солнце уже садится.
Мама бросила лопату и побежала на косогор посмотреть, так как огород был ниже, и вся дорога не просматривалась. Сестра тоже не выдержала и побежала за мамой. Мне ничего не оставалось, как последовать за ними. Когда я поднялся на косогор, то увидел, как мама и сестра кого-то обнимали. Подбежав ближе, запыхавшись, я увидел, что это действительно папа с двумя чемоданами. Посадку быстро закончили и отправились домой. Домой мы пришли, когда совсем было темно. Приезду папы были рады не только мы, но и бабушка Маруся. Она ждала нас, поэтому нажарила картошки, а тут появился и мой папа. Бабушка Маруся всплеснула руками, побежала в погреб и принесла соленых помидор и огурцов, прихватила бутылку, где плескалась какая-то жидкость.
— Это я берегла к твоему приезду, Иваныч. Пусть хоть мне не повезло, так хоть у вас пусть все благополучно сложиться.
Она всплакнула, но после двух чарок она сильным женским голосом затянула песню.
— Помогай, Кузьминична. — Мама подхватила. Мелодия красивой русской песни, на два голоса, полилась по сумеречным закоулкам хутора. Мы праздновали благополучное возвращение твоего деда Вани с фронта.
Другие новости по теме
 «Семейные истории о войне»: Ширикова (Секаева) Раиса Григорьевна
«Семейные истории о войне»: Ширикова (Секаева) Раиса Григорьевна Отрывок из книги «Пушки заговорили», где рассказывается о боях под Гумбинненом
Отрывок из книги «Пушки заговорили», где рассказывается о боях под Гумбинненом Девочка из Гусева, на которую упал шкаф, впервые рассказала о трагедии
Девочка из Гусева, на которую упал шкаф, впервые рассказала о трагедии История одного посёлка: Кубановка
История одного посёлка: Кубановка
Гости из вашей страны не могут оставлять комментарии на сайте. Авторизируйтесь или пройдите регистрацию.