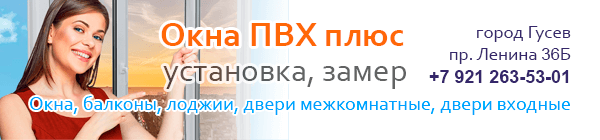Рассказ Александра Куприна «Потерянное сердце», где рассказывается о Гумбиннене
17 февраля 2020, 15:58
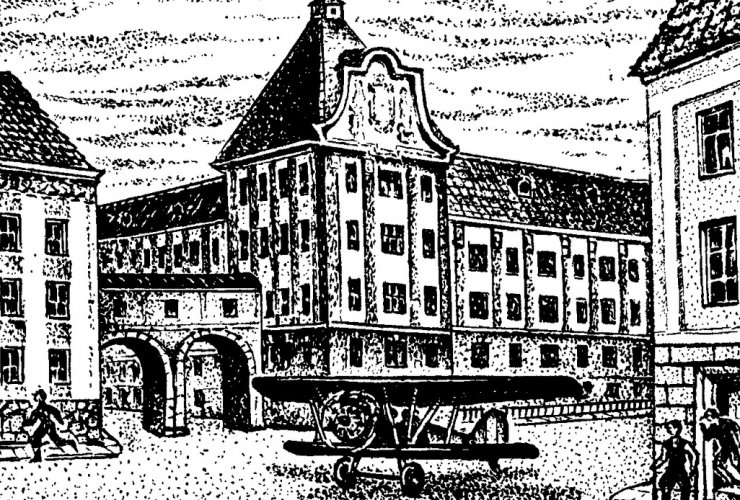
Хочу предложить вашему вниманию рассказ Александра Куприна «Потерянное сердце», где рассказывается о Гумбиннене 1914 года.
Из Гатчинской авиационной школы вышло очень много превосходных летчиков, отличных инструкторов и отважных бойцов за родину.
И вместе с тем вряд ли можно было найти на всем пространстве неизмеримой Российской империи аэродром, менее приспособленный для целей авиации и более богатый несчастными случаями и человеческими жертвами. Причины этих печальных явлений толковались различно. Молодежь летчицкая склонна была валить вину на ту небольшую рощицу, которая росла испокон десятилетий посредине учебного поля и нередко мешала свободному движению аппарата, только что набирающего высоту и скорость, отчего и происходили роковые падения. Гатчинский аэродром простирался как раз между Павловским старым дворцом и Балтийским вокзалом. Из западных окон дворца роща была очень хорошо видна. Рассказывали, что этот кусочек пейзажа издавна любила покойная государыня Мария Феодоровна, и потому будто бы Дворцовый коментдант препятствовал снесению досадительной рощи, несмотря на то что государыня уже более десяти лет не посещала Гатчины.
Конечно, молодежь могла немного ошибаться. Ведь известно, что всех начинающих велосипедистов, летчиков, конькобежцев и прочих спортсменов всегда неудержимо тянет к препятствиям, которые очень легко возможно было бы обойти.
Опытные, дальновидные начальники школы судили иначе: они принимали во внимание топографическое положение Гатчины с окружающими ее болотами и лесами, с близостью Финского залива и Дудергофской горы и, исходя из этих данных, объясняли капризность, переменчивость и внезапность местных ветров. В виде примера они приводили спортивный перелет из Петербурга в Москву штатских авиаторов: Уточкина, Лерхе, Кузьминского, Васильева и еще каких-то трех. Все они сели самым жестоким образом на ничтожных Валдайских возвышенностях, поломав вдребезги свои аппараты. Продолжать полет мог только Васильев, и то лишь потому, что Уточкин, сам с разбитым коленом, отдал ему великодушно все запасные части, помог их приладить и лично запустил мотор…
Трагическое, возвышенное и гордое впечатление производил тот угол на гатчинском кладбище, где беспокойные, отважные летчики находили свой глубокий вечный сон. Заместо памятников над ними водружались пропеллеры. Издали это кладбище авиаторов походило на высокий, беспорядочно воткнутый частокол, но, подходя к могиле ближе, каждый испытывал волнующее высокое чувство. Казалось, что вот с необычайной высоты упала прекрасная мощная птица и, разбившись о землю, вся вошла в нее. И только одно стройное крыло подымается высоко и прямо к далекому небу и еще вздрагивает от силы прерванного полета.
Жуток и величествен был обычай похоронных проводов убившегося товарища. На всем пути в церковь и потом на кладбище его сопровождала, кружась высоко над ним, летучая эскадра изо всех наличных летчиков школы, и рев аэропланов заглушал идущее к небу последнее скорбное моление: «Святый боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас».
Суров был и, пожалуй, даже немного жесток другой неписаный добровольный товарищеский обычай. Если летчику, по несчастному случаю или по неловкой ошибке, случалось угробить аэроплан, то на это крушение большого внимания никто не обращал. Если оно происходило далеко от аэродрома, то летчик телефонировал в школу, а если близко, то его падение бывало видно с поля. Очень быстро приезжали авиационные солдаты и на телегах увозили остатки катастрофы. Но если угробливался или опасно искалечивался сам летчик, то его везли в госпиталь. И в тот же час, хотя бы его труп лежал еще тут же, у всех на виду, на авиационном поле, все летчики, находящиеся на службе, выдвигали из ангаров или брали с поля готовые аппараты и устремлялись ввысь. Опытные летуны пробовали выполнить задачу, заданную на сегодня несчастному собрату, другие старались повысить собственные рекорды. Тщетно было бы искать происхождения такого вызова судьбе в параграфах военно-авиационного устава. Это был неписаный закон, священный обычай, словесный «адат» мусульман, выработанный инстинктом, необходимостью и опытом. Летчик всегда должен оставаться спокойным, даже тогда, когда лицо его обледенит близкое дыхание смерти. «Вот убился твой товарищ, однокашник и друг. Его прекрасное молодое тело, вмещавшее столько божественных возможностей, еще хранит человеческую теплоту, но глаза уже не видят, уши не слышат, мысль погасла и душа отлетела бог весть куда. Крепись, летчик! Слезы прольешь вечером. Дыши ровно. Не давай сердцу биться. Потеряешь сердце — потеряешь жизнь, честь и славу. Руки на рукоятках. Ноги на педалях. Взревел мотор, сотрясая громадныи аппарат. Вперед и выше! Прощай, товарищ! Бьет в лицо ветер, уходит глубоко из-под ног темная земля. Выше! Выше, летчик!»
В то время, незадолго до войны, и в первые годы войны чрезвычайно, даже чрезмерно многие молодые люди жадно стремились попасть в военную авиацию. Поводов было много: красивая форма, хорошее жалованье, исключительное положение, отблеск героизма, ласковые взгляды женщин, служба, казавшаяся издали необременительной и очень веселой и легкой. Реже других попадали в авиационные школы люди настоящего призвания, прирожденные люди-птицы, восторженно мечтающие о терпких и сладких радостях летания в воздухе, те люди, о которых Пушкин говорил:
Все, все, что гибелью грозит,
Для сердца смертного таит
Неизъяснимы наслажденья,
Бессмертья, может быть, залог!
Но надо сказать, что эти разверзатели пространств, эти летуны милостью божиею удивительно редко встречаются в природе, и к тому же они совсем лишены великих даров назойливости, попрошайничества и втирательства через протекции.
Но и протекции все равно не помогали. Новичков принимали в авиационную школу, протискивая их через густое сито. Будущий летчик должен был обладать: совершенным и несокрушимым здоровьем; большой емкостью легких; способностью быстро ориентироваться как на земле, так и в воздухе; верным умением находить и держать равновесие; острым зрением, без намека на дальтонизм; безукоризненным слухом, физической силой и, наконец, сердцем, работающим при всяких положениях с холодной, неизменной точностью астрономического хронометра.
Про храбрость, смелость, отвагу, дерзость, неустрашимость и про прочие сверхчеловеческие душевные качества летчика в этом летающем мире никогда или почти никогда не говорилось. Да и зачем? Разве эти, столь редкие ныне, качества не входили сами по себе в долг и обиход военного авиатора?.. Хвалили Нестерова, впервые сделавшего мертвую петлю. Хвалили Казакова, снизившего восемнадцать вражеских аэропланов. Хвалили, но не удивлялись: удивление так близко к ротозейству!
Не мудрено, что при столь строгом испытании и при такой суровой дисциплине наибольшая часть неспособных, ненужных, никуда не годящихся кандидатов в летчики отваливалась вскоре сама собою, как шлак или мусор. Оставался безукоризненный, надежный отбор. Но даже среди этих избранных, при первых опытах полета, находились еще неудачники, люди смелые, ловкие, влюбленные в авиацию, но — увы! — лишенные какого-то из великих даров приближения к небу. Те уходили молча, с горестью в душе, и старые летчики провожали их с грубоватым и дружеским сожалением, хотя иных из них приходилось провожать только до кладбища.
Овладевал, между прочим, не только молодыми, но и опытными, закаленными знаменитыми летчиками особый трудно объяснимый и неизлечимый, внезапный недуг, который назывался «потерею сердца» и о котором ни один из авиаторов не позволил бы себе отозваться насмешливо или легкомысленно.
Здесь под понятием сердца не надо предполагать мощный мускул на левой стороне человеческой груди, который самоотверженно и послушно многие годы нагнетает кровь во все закоулки нашего тела. Нет! Здесь подразумевается символ психологический, моральный. Потерять сердце — это для летчика значит потерять божественную свободу разгуливать в небесном пространстве по своей воле на хрупком аппарате, пронизывать облака, спокойно встречать дождь, снег, ураган и молнии, ничуть не теряясь оттого, что ты совершенно не знаешь: летишь ли ты во тьме, на юг или на запад, вверх или вниз.
Одно из пораэительнейших явлений — это потеря сердца. Ее знают акробаты, всадники и лошади, борцы, боксеры, бретеры и великие артисты. Эта странная болезнь постигает свою жертву без всяких последовательных предупреждений. Она является внезапно, и причин ее не сыщешь.
Вот так же неожиданно потерял сердце на Гатчинском аэродроме славный авиатор и отличный инструктор Феденька Юрков (ударение на о), о котором в наивной гатчинской авиационной звериаде пелось:
Кто хоть пьян, но в бой готов?
Это Феденька Юрков…
Химия, химия,
Сугубая химия…
Поступил он в авиацию не очень рано, лет двадцати семи-восьми, из кавалерии. Надо сказать, что кавалеристам легче, чем простым смертным, давалась несложная, но все-таки требующая присутствия духа наука управления авионом, ибо работа над лошадью поводьями и шенкелями имеет много общего с маневрами летчиков.
Служил он раньше хотя и не в гвардейском, а в армейском полку, но полк от времен седой старины был покрыт исторической славой.
Замечателен он был еще тем, что в нем, как и в двух других кавалерийских полках, всему составу господ офицеров и всем вахмистрам полагалось быть холостыми, и на это крутое правило никогда не было ни исключений, ни поблажек.
Что-то было в милом Феденьке Юркове от легендарных героев-кавалеристов 1812 года — от Милорадовича, от Бурцова, ёры, забияки, от Дениса Давыдова, от Сеславина: хриплый командный голос с приятной сипловатостью, походка немного раскорякою, внешняя грубость и внутренняя правдивая доброта и, наконец, блестящая лихость в боевых делах. Вся русская военная авиация знала и с улыбкой вспоминала о его забавном и опасном приключении в начале войны на Западном фронте. Ему была поручена воздушная разведка. Штабу наверняка было известно, что немцы находятся где-то довольно близко, верстах в тридцати-сорока, но в каком направлении — никто не ведал.
Юрков быстро поднялся в воздух, имея позади себя наблюдателя с бомбой, знавшего прекрасно немецкий язык, бывшего ученика петербургской Петершуле, славного и сильного малого и из «русских распрорусского».
Погода в верхних слоях была моросливая, с густым тяжелым туманом. Пилот вскоре потерял намеченный путь, перестал ориентироваться и решил приземлиться, чтобы спознаться в местности. Судьба и начавшийся ветерок руководили им. Он спустился как раз на широкую и теперь безлюдную площадь города Гумбинена, как раз напротив опрятного кабачка, тонувшего во вьющейся зелени. Город, несмотря на рев спускавшегося авиона, продолжал безмолвствовать, как в сказке о спящей царевне. Вероятно, звуки мотора были здесь обычным явлением. Из кабачка пахло кофеем и жареной колбасой. У Юркова сразу созрел план действий.
— Надо узнать, какой это город, и вытянуть, какие удастся, сведения. Итак, слушайте, Шульц: я — лейтенант кайзерской авиации, вы — мой унтер-офицер. Я ранен в горло и потому говорю совсем невнятно. Я буду хрипеть и сопеть. Так мне легче будет маскировать мое незнание немецкого языка, а берлинский жаргон я умею ловко передразнивать. Немецкие деньги у вас. Дайте сюда и идемте фриштыкать 1. Если возникнут недоразумения по поводу нашей формы, говорите, что наша секретная задача этого требует для заманивания в мешок этих руссише швейне 2, и вообще ругайте нас без всякого милосердия. Когда подкрепитесь, идите к аппарату. Ну, форвертс! 3
В опрятной столовой они выпили кофе с молоком, съели вкусный сытный завтрак из яичницы с ветчиной, жареных толстых сосисок и доброго сыра, запивали же его они дрянным шнапсом и отличным бархатным черным пивом.
Шульц без конца болтал на настоящем чистейшем немецком языке и ловко успел выведать, что город называется Гумбиненом, что отряды кайзера пробыли в нем четыре дня, а потом ушли куда-то на восток и теперь их не видно и не слышно уже трое суток, а в городе остались лишь раненые и инвалидная команда. Юрков произносил картаво, хрипло и густо, из самой глубины горла односложные слова «моэн», «маальцейт», «проозит», «колоссаль», «пирамидаль» 4, а огромного, толстого, раздутого пивом хозяина звал, хлопая его дружески по жирной спине: «Май либа фаата» 5.
Если Ницше называл прусский берлинский язык плохой и бездарной пародией на немецкий, то юрковская пародия на пародию выходила замечательно.
Две милые женщины прислуживали за столом: полная — чтобы не сказать толстая — хозяйка, цветущая пышной, обильной красотою сорокалетней упитанной немки, и ее дочь, свеженькая «бакфиш» 6, с невинными голубыми глазами, розовым лицом, золотыми волосами и губами красными, как спелая вишня.
«Эх, пожить бы нам здесь всласть дня два, три, — мечтательно подумал Феденька. — Я бы поволочился за фрау, а фрейлен предоставил бы Шульцу. Конечно, ничего дурного! Просто — буколическая идиллия под каштанами немецкого тихого городка…»
Но в эту минуту скорым ходом вернулся от аэроплана Шульц. Он чуть-чуть кивнул головой в знак того, что все обстоит благополучно, но легкое движение его ресниц красноречиво указало на дверь.
— Извините. Одна минута, — сказал по-немецки голосом чревовещателя Юрков и вышел.
— В чем дело?
— Проезжал в шарабане немец и остановился, чтобы сказать другому немцу, что по дороге он видел с холма большой немецкий отряд, идущий в колонне на Гумбинен. Что прикажете делать, господин ротмистр?
— Сниматься с якоря. Идем попрощаемся с милыми хозяевами. — Он расплатился за завтрак с такой щедростью, на какую никогда бы не отважился ни один немецкий эрцгерцог, и притом расплатился не жалкими бумажками, а настоящими серебряными гульденами. Пораженная сказочной платой, хозяйка навязала почти насильно авиаторам корзиночку с провизией, и растроганный Юрков влепил ей в самые губы сердечный поцелуй. Хозяин охотно вызвался отыскать двух сильных людей, чтобы пустить в ход пропеллер аппарата. Через десять минут мощный «моран-парасоль», отодравшись от земли, уже летел легко к разъяснившемуся небу, а немецкие друзья махали вслед ему шляпами и платками.
Вскоре с большой высоты они увидали сплошную гусеницу немецкой колонны, казавшейся почти неподвижной.
— Господин ротмистр, — прокричал в слуховую трубку Шульц, указывая на гнездо, в котором лежала бомба. — А не пустить ли в них этой мамашей?
На что Юрков, никогда не терявший спокойствия, ответил серьезно:
— Нет, мой молодой друг! Наше точное задание — разведка. — Часто увы! — из-за сурового долга приходится отказывать себе в маленьких невинных удовольствиях!..
Вечером, в офицерском собрании, за ужином, в который входили и гумбиненские толстые сосиски, Феденька Юрков рассказал эту историю при громком хохоте всех летчиков. Ему не чужд был соленый, грубоватый юмор.
Юрков поступил в авиацию за год до войны. На войне он с успехом летал сначала на таких старых первобытных аппаратах, каких давным-давно и помину не было во всех воюющих армиях. Немцы говорили: «Самые храбрые летчики это русские. Немецкий летчик счел бы безумием сесть на один из их аппаратов». Юркова точно чудом спасали от смерти его отвага, хладнокровие и находчивость.
За это время он успел все-таки сбить шесть вражеских аэропланов. В 1916 году он получил две пулевых раны и был из госпиталя командирован в Гатчинскую школу в качестве инструктора. Вернее, это был замаскированный отдых.
Как товарищ Юрков, несмотря на некоторую шершавость характера, отличался добротою, готовностью к услуге, всегдашней правдивостью и был любимейшим компаньоном. Как инструктор он был строг и крайне требователен. Он как будто бы совсем позабыл о том постепенном преодолении трудностей, о той постоянной гимнастике духа и воли, которые неизбежны при обучении искусству авиации. Большинство учеников сбегало от него к другим, более мягким, инструкторам, по зато из молодежи, обтерпевшейся в его жестких руках, выходили немногие, но первоклассные летчики.
В Гатчине Феденька Юрков выбрал своим жильем гостиницу Веревкина, на вывесках которого золотом по черному было написано: на одной «Vieux Verevkine» 7, а на другой «Распивочно и раскурочно» — старый наивный след, пятидесятых годов.
Гатчина, городишко тихий, необщительный, летом весь в густой зелени, зимой весь в непроходимом снегу. Там семьи редко знакомятся друг с другом. Нет в нем никаких собраний, увеселений и развлечений, кроме гаденького кинематографа.
Никогда ни одного человека нельзя было встретить: ни в Приоратском парке, ни в дворцовом, ни в зверинце. Замечательный дворец Павла I не привлекал ничьего внимания, пустовали даже улицы.
Вот именно в передней плохонького синема, после сеанса, Феденька Юрков и увидел Катеньку Вахтер.
Дожидаясь, пока ее матушка разыскивала свои галоши, а потом кутала шею и голову вязаным платком, Катенька стояла перед зеркалом, кокетничала со своею новой шляпой и вполголоса говорила подруге о своих впечатлениях, склоняя личико то на один, то на другой бок.
— Ах, Макс Линдер! До чего он хорош! Это что-то сверхъестественное, не объяснимое никакими человеческими словами! Какое выразительное лицо. Какие прелестные жесты!
Тут она повернула головку направо, и глаза ее столкнулись в зеркале с глазами Юркова. Она глядела прямо на летчика, но глядела машинально: она его не видела и продолжала говорить с преувеличенной страстностью, упираясь зрачками в его зрачки.
— Он безумно, безумно мне нравится! Я еще никогда не видала в жизни такого прекрасного мужчину! Вот человек, которому без колебаний можно отдать и жизнь, и душу, и все, все, все. О, я совсем очарована им!
В это мгновение восторженный образ Юркова влился в сознание барышни Вахтер. Она покраснела и поспешила спрятаться за широкую спину маменьки. Но про себя она сказала по адресу офицера, жадно пялившего на нее восхищенные глаза: «Какой дерзкий нахал»
Юрков отлично заметил ее гордый, небрежный и презрительный взгляд. Но… все равно… Теперь ему уже не было спасенья. Стрела амура успела пронзить в этот момент его мужественное сердце, и он сразу же заболел первой любовью: любовью нежной, жестокой, непреодолимой и неизлечимой.
В доме Вахтеров иногда бывали гатчинские летчики. Один из них, поручик Коновалов, ввел Юркова в этот дом, и с тех пор Феденька зачастил туда с визитами. Он приносил цветы и конфеты, участвовал в пикниках и шарадах, держал для мамаши на распяленных пальцах мотки шерсти, водил папашу, акцизного надзирателя и старого мухобоя, в офицерское собрание, где хоть и не без труда, по удавалось иногда выпросить стакан спирта у заведующего хозяйством школы капитана Озеровского. Недаром в исторической звериаде пелось:
А чтоб достать порою спирт,
Нам с Озеровским нужен флирт,
Химия, химия,
Сугубая химия.
Скрепя сердце играл Юрков в маленькие семейные игры и танцевал под мамашину музыку самые неуклюжие вальсы, венгерки и падеспани. Всем было известно, что он без ума влюбился в Катеньку. Товарищи-летчики удивлялись. Что он нашел в этой тоненькой семнадцатилетней девчонке? Она была мала ростом, с бледным лицом в пупырышках; к тому же была у нее неисправимая, дурная привычка беспрестанно двигать кожу на лбу, так что морщины подымались вверх до корней волос, что придавало лицу Катеньки глупое и всегда удивленное выражение. Не пленила ли Феденьку одна ее трепетная юность?
Бывший офицер славного холостого кавалерийского полка никогда не знал чистой, свежей любви. Он, подобно своим товарищам — драгунам, всегда в любовных делах занимался дальним каперством, чтобы не сказать пиратством, и вообще легкими амурами. Теперь он любил с уважением, с обожанием, с вечной иссушающей мечтой о тихих радостях законного брака. Это стремление к семейному раю порою глубоко изумляло его самого, и он иногда размышлял вслух:
— Гм… Попался, который кусался!..
Пробовал он порою закидывать косолапые намеки на предложение руки и сердца. Но куда девалось его прежнее развязное и бесцеремонное красноречие. Слова тяжело вязли во рту, а часто их и вовсе не хватало. Его жениховских подходов как будто никто не понимал…
К тому же всем давно было известно, что Катенька влюблена в Жоржа Востокова, двадцатипятилетнего летчика, который, несмотря на свою молодость, считался первым во всей русской авиации по искусству фигурного пилотажа. Кроме того, румяный Жоржик премило пел нежные романсы, аккомпанируя себе на мандолине и на рояле. Но он не обращал никакого внимания на Катюшины взоры, вздохи и на томные приглашения прокатиться на лодке по Приоратскому пруду. Вскоре он и совсем перестал бывать у Вахтеров.
Убедившись наконец в своей полной и бесповоротной неудаче, Юрков заскучал, захандрил, изнемог, и более двух недель он под разными предлогами не выходил из гостиницы «Vieux Verevkin’a» и вернулся на службу лишь после многозначительной бумаги начальника школы. Пришел он на аэродром весь какой-то мягкий, опущенный, с исхудалым и потемневшим лицом и сказал товарищам-пилотам:
— Я хворал и потому совсем раскис. Но теперь мне гораздо лучше. Попробую сегодня подняться на четыре тысячи. Это меня взбодрит и встряхнет.
Ему вывели из гаража его чуткий, послушный «моран-парасоль». Все видели, как ловко, круто и быстро он поднялся до высоты в тысячу метров, но на этой высоте с ним стало делаться что-то странное. Он не шел выше, вилял, несколько раз пробовал подняться и опять спускался. Все думали, что у него случилось что-нибудь с аппаратом. Потом он стал снижаться планирующим спуском. Но аэроплан точно шатался в его руках. И на землю он сел неуверенно, едва не сломав шасси… Товарищи подбежали к нему. Он стоял возле машины с мрачным и печальным лицом.
— Что с тобою, Феденька? — спросил кто-то.
— Ничего… — ответил он отрывисто. — Ничего… Я потерял сердце, как ни бился — не могу и не могу подняться выше тысячи метров, — и знаете ли? никогда не смогу.
Покачиваясь, он пошел через авиационное поле. Никто его не провожал, но все долго и молча глядели ему вслед.
Немного придя в себя, Юрков на другой день, и на третий, и на следующий пробовал одолеть тысячную высоту, но это ему не давалось. Сердце было потеряно навеки.
Потерянное сердце
Из Гатчинской авиационной школы вышло очень много превосходных летчиков, отличных инструкторов и отважных бойцов за родину.
И вместе с тем вряд ли можно было найти на всем пространстве неизмеримой Российской империи аэродром, менее приспособленный для целей авиации и более богатый несчастными случаями и человеческими жертвами. Причины этих печальных явлений толковались различно. Молодежь летчицкая склонна была валить вину на ту небольшую рощицу, которая росла испокон десятилетий посредине учебного поля и нередко мешала свободному движению аппарата, только что набирающего высоту и скорость, отчего и происходили роковые падения. Гатчинский аэродром простирался как раз между Павловским старым дворцом и Балтийским вокзалом. Из западных окон дворца роща была очень хорошо видна. Рассказывали, что этот кусочек пейзажа издавна любила покойная государыня Мария Феодоровна, и потому будто бы Дворцовый коментдант препятствовал снесению досадительной рощи, несмотря на то что государыня уже более десяти лет не посещала Гатчины.
Конечно, молодежь могла немного ошибаться. Ведь известно, что всех начинающих велосипедистов, летчиков, конькобежцев и прочих спортсменов всегда неудержимо тянет к препятствиям, которые очень легко возможно было бы обойти.
Опытные, дальновидные начальники школы судили иначе: они принимали во внимание топографическое положение Гатчины с окружающими ее болотами и лесами, с близостью Финского залива и Дудергофской горы и, исходя из этих данных, объясняли капризность, переменчивость и внезапность местных ветров. В виде примера они приводили спортивный перелет из Петербурга в Москву штатских авиаторов: Уточкина, Лерхе, Кузьминского, Васильева и еще каких-то трех. Все они сели самым жестоким образом на ничтожных Валдайских возвышенностях, поломав вдребезги свои аппараты. Продолжать полет мог только Васильев, и то лишь потому, что Уточкин, сам с разбитым коленом, отдал ему великодушно все запасные части, помог их приладить и лично запустил мотор…
Трагическое, возвышенное и гордое впечатление производил тот угол на гатчинском кладбище, где беспокойные, отважные летчики находили свой глубокий вечный сон. Заместо памятников над ними водружались пропеллеры. Издали это кладбище авиаторов походило на высокий, беспорядочно воткнутый частокол, но, подходя к могиле ближе, каждый испытывал волнующее высокое чувство. Казалось, что вот с необычайной высоты упала прекрасная мощная птица и, разбившись о землю, вся вошла в нее. И только одно стройное крыло подымается высоко и прямо к далекому небу и еще вздрагивает от силы прерванного полета.
Жуток и величествен был обычай похоронных проводов убившегося товарища. На всем пути в церковь и потом на кладбище его сопровождала, кружась высоко над ним, летучая эскадра изо всех наличных летчиков школы, и рев аэропланов заглушал идущее к небу последнее скорбное моление: «Святый боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас».
Суров был и, пожалуй, даже немного жесток другой неписаный добровольный товарищеский обычай. Если летчику, по несчастному случаю или по неловкой ошибке, случалось угробить аэроплан, то на это крушение большого внимания никто не обращал. Если оно происходило далеко от аэродрома, то летчик телефонировал в школу, а если близко, то его падение бывало видно с поля. Очень быстро приезжали авиационные солдаты и на телегах увозили остатки катастрофы. Но если угробливался или опасно искалечивался сам летчик, то его везли в госпиталь. И в тот же час, хотя бы его труп лежал еще тут же, у всех на виду, на авиационном поле, все летчики, находящиеся на службе, выдвигали из ангаров или брали с поля готовые аппараты и устремлялись ввысь. Опытные летуны пробовали выполнить задачу, заданную на сегодня несчастному собрату, другие старались повысить собственные рекорды. Тщетно было бы искать происхождения такого вызова судьбе в параграфах военно-авиационного устава. Это был неписаный закон, священный обычай, словесный «адат» мусульман, выработанный инстинктом, необходимостью и опытом. Летчик всегда должен оставаться спокойным, даже тогда, когда лицо его обледенит близкое дыхание смерти. «Вот убился твой товарищ, однокашник и друг. Его прекрасное молодое тело, вмещавшее столько божественных возможностей, еще хранит человеческую теплоту, но глаза уже не видят, уши не слышат, мысль погасла и душа отлетела бог весть куда. Крепись, летчик! Слезы прольешь вечером. Дыши ровно. Не давай сердцу биться. Потеряешь сердце — потеряешь жизнь, честь и славу. Руки на рукоятках. Ноги на педалях. Взревел мотор, сотрясая громадныи аппарат. Вперед и выше! Прощай, товарищ! Бьет в лицо ветер, уходит глубоко из-под ног темная земля. Выше! Выше, летчик!»
В то время, незадолго до войны, и в первые годы войны чрезвычайно, даже чрезмерно многие молодые люди жадно стремились попасть в военную авиацию. Поводов было много: красивая форма, хорошее жалованье, исключительное положение, отблеск героизма, ласковые взгляды женщин, служба, казавшаяся издали необременительной и очень веселой и легкой. Реже других попадали в авиационные школы люди настоящего призвания, прирожденные люди-птицы, восторженно мечтающие о терпких и сладких радостях летания в воздухе, те люди, о которых Пушкин говорил:
Все, все, что гибелью грозит,
Для сердца смертного таит
Неизъяснимы наслажденья,
Бессмертья, может быть, залог!
Но надо сказать, что эти разверзатели пространств, эти летуны милостью божиею удивительно редко встречаются в природе, и к тому же они совсем лишены великих даров назойливости, попрошайничества и втирательства через протекции.
Но и протекции все равно не помогали. Новичков принимали в авиационную школу, протискивая их через густое сито. Будущий летчик должен был обладать: совершенным и несокрушимым здоровьем; большой емкостью легких; способностью быстро ориентироваться как на земле, так и в воздухе; верным умением находить и держать равновесие; острым зрением, без намека на дальтонизм; безукоризненным слухом, физической силой и, наконец, сердцем, работающим при всяких положениях с холодной, неизменной точностью астрономического хронометра.
Про храбрость, смелость, отвагу, дерзость, неустрашимость и про прочие сверхчеловеческие душевные качества летчика в этом летающем мире никогда или почти никогда не говорилось. Да и зачем? Разве эти, столь редкие ныне, качества не входили сами по себе в долг и обиход военного авиатора?.. Хвалили Нестерова, впервые сделавшего мертвую петлю. Хвалили Казакова, снизившего восемнадцать вражеских аэропланов. Хвалили, но не удивлялись: удивление так близко к ротозейству!
Не мудрено, что при столь строгом испытании и при такой суровой дисциплине наибольшая часть неспособных, ненужных, никуда не годящихся кандидатов в летчики отваливалась вскоре сама собою, как шлак или мусор. Оставался безукоризненный, надежный отбор. Но даже среди этих избранных, при первых опытах полета, находились еще неудачники, люди смелые, ловкие, влюбленные в авиацию, но — увы! — лишенные какого-то из великих даров приближения к небу. Те уходили молча, с горестью в душе, и старые летчики провожали их с грубоватым и дружеским сожалением, хотя иных из них приходилось провожать только до кладбища.
Овладевал, между прочим, не только молодыми, но и опытными, закаленными знаменитыми летчиками особый трудно объяснимый и неизлечимый, внезапный недуг, который назывался «потерею сердца» и о котором ни один из авиаторов не позволил бы себе отозваться насмешливо или легкомысленно.
Здесь под понятием сердца не надо предполагать мощный мускул на левой стороне человеческой груди, который самоотверженно и послушно многие годы нагнетает кровь во все закоулки нашего тела. Нет! Здесь подразумевается символ психологический, моральный. Потерять сердце — это для летчика значит потерять божественную свободу разгуливать в небесном пространстве по своей воле на хрупком аппарате, пронизывать облака, спокойно встречать дождь, снег, ураган и молнии, ничуть не теряясь оттого, что ты совершенно не знаешь: летишь ли ты во тьме, на юг или на запад, вверх или вниз.
Одно из пораэительнейших явлений — это потеря сердца. Ее знают акробаты, всадники и лошади, борцы, боксеры, бретеры и великие артисты. Эта странная болезнь постигает свою жертву без всяких последовательных предупреждений. Она является внезапно, и причин ее не сыщешь.
Вот так же неожиданно потерял сердце на Гатчинском аэродроме славный авиатор и отличный инструктор Феденька Юрков (ударение на о), о котором в наивной гатчинской авиационной звериаде пелось:
Кто хоть пьян, но в бой готов?
Это Феденька Юрков…
Химия, химия,
Сугубая химия…
Поступил он в авиацию не очень рано, лет двадцати семи-восьми, из кавалерии. Надо сказать, что кавалеристам легче, чем простым смертным, давалась несложная, но все-таки требующая присутствия духа наука управления авионом, ибо работа над лошадью поводьями и шенкелями имеет много общего с маневрами летчиков.
Служил он раньше хотя и не в гвардейском, а в армейском полку, но полк от времен седой старины был покрыт исторической славой.
Замечателен он был еще тем, что в нем, как и в двух других кавалерийских полках, всему составу господ офицеров и всем вахмистрам полагалось быть холостыми, и на это крутое правило никогда не было ни исключений, ни поблажек.
Что-то было в милом Феденьке Юркове от легендарных героев-кавалеристов 1812 года — от Милорадовича, от Бурцова, ёры, забияки, от Дениса Давыдова, от Сеславина: хриплый командный голос с приятной сипловатостью, походка немного раскорякою, внешняя грубость и внутренняя правдивая доброта и, наконец, блестящая лихость в боевых делах. Вся русская военная авиация знала и с улыбкой вспоминала о его забавном и опасном приключении в начале войны на Западном фронте. Ему была поручена воздушная разведка. Штабу наверняка было известно, что немцы находятся где-то довольно близко, верстах в тридцати-сорока, но в каком направлении — никто не ведал.
Юрков быстро поднялся в воздух, имея позади себя наблюдателя с бомбой, знавшего прекрасно немецкий язык, бывшего ученика петербургской Петершуле, славного и сильного малого и из «русских распрорусского».
Погода в верхних слоях была моросливая, с густым тяжелым туманом. Пилот вскоре потерял намеченный путь, перестал ориентироваться и решил приземлиться, чтобы спознаться в местности. Судьба и начавшийся ветерок руководили им. Он спустился как раз на широкую и теперь безлюдную площадь города Гумбинена, как раз напротив опрятного кабачка, тонувшего во вьющейся зелени. Город, несмотря на рев спускавшегося авиона, продолжал безмолвствовать, как в сказке о спящей царевне. Вероятно, звуки мотора были здесь обычным явлением. Из кабачка пахло кофеем и жареной колбасой. У Юркова сразу созрел план действий.
— Надо узнать, какой это город, и вытянуть, какие удастся, сведения. Итак, слушайте, Шульц: я — лейтенант кайзерской авиации, вы — мой унтер-офицер. Я ранен в горло и потому говорю совсем невнятно. Я буду хрипеть и сопеть. Так мне легче будет маскировать мое незнание немецкого языка, а берлинский жаргон я умею ловко передразнивать. Немецкие деньги у вас. Дайте сюда и идемте фриштыкать 1. Если возникнут недоразумения по поводу нашей формы, говорите, что наша секретная задача этого требует для заманивания в мешок этих руссише швейне 2, и вообще ругайте нас без всякого милосердия. Когда подкрепитесь, идите к аппарату. Ну, форвертс! 3
В опрятной столовой они выпили кофе с молоком, съели вкусный сытный завтрак из яичницы с ветчиной, жареных толстых сосисок и доброго сыра, запивали же его они дрянным шнапсом и отличным бархатным черным пивом.
Шульц без конца болтал на настоящем чистейшем немецком языке и ловко успел выведать, что город называется Гумбиненом, что отряды кайзера пробыли в нем четыре дня, а потом ушли куда-то на восток и теперь их не видно и не слышно уже трое суток, а в городе остались лишь раненые и инвалидная команда. Юрков произносил картаво, хрипло и густо, из самой глубины горла односложные слова «моэн», «маальцейт», «проозит», «колоссаль», «пирамидаль» 4, а огромного, толстого, раздутого пивом хозяина звал, хлопая его дружески по жирной спине: «Май либа фаата» 5.
Если Ницше называл прусский берлинский язык плохой и бездарной пародией на немецкий, то юрковская пародия на пародию выходила замечательно.
Две милые женщины прислуживали за столом: полная — чтобы не сказать толстая — хозяйка, цветущая пышной, обильной красотою сорокалетней упитанной немки, и ее дочь, свеженькая «бакфиш» 6, с невинными голубыми глазами, розовым лицом, золотыми волосами и губами красными, как спелая вишня.
«Эх, пожить бы нам здесь всласть дня два, три, — мечтательно подумал Феденька. — Я бы поволочился за фрау, а фрейлен предоставил бы Шульцу. Конечно, ничего дурного! Просто — буколическая идиллия под каштанами немецкого тихого городка…»
Но в эту минуту скорым ходом вернулся от аэроплана Шульц. Он чуть-чуть кивнул головой в знак того, что все обстоит благополучно, но легкое движение его ресниц красноречиво указало на дверь.
— Извините. Одна минута, — сказал по-немецки голосом чревовещателя Юрков и вышел.
— В чем дело?
— Проезжал в шарабане немец и остановился, чтобы сказать другому немцу, что по дороге он видел с холма большой немецкий отряд, идущий в колонне на Гумбинен. Что прикажете делать, господин ротмистр?
— Сниматься с якоря. Идем попрощаемся с милыми хозяевами. — Он расплатился за завтрак с такой щедростью, на какую никогда бы не отважился ни один немецкий эрцгерцог, и притом расплатился не жалкими бумажками, а настоящими серебряными гульденами. Пораженная сказочной платой, хозяйка навязала почти насильно авиаторам корзиночку с провизией, и растроганный Юрков влепил ей в самые губы сердечный поцелуй. Хозяин охотно вызвался отыскать двух сильных людей, чтобы пустить в ход пропеллер аппарата. Через десять минут мощный «моран-парасоль», отодравшись от земли, уже летел легко к разъяснившемуся небу, а немецкие друзья махали вслед ему шляпами и платками.
Вскоре с большой высоты они увидали сплошную гусеницу немецкой колонны, казавшейся почти неподвижной.
— Господин ротмистр, — прокричал в слуховую трубку Шульц, указывая на гнездо, в котором лежала бомба. — А не пустить ли в них этой мамашей?
На что Юрков, никогда не терявший спокойствия, ответил серьезно:
— Нет, мой молодой друг! Наше точное задание — разведка. — Часто увы! — из-за сурового долга приходится отказывать себе в маленьких невинных удовольствиях!..
Вечером, в офицерском собрании, за ужином, в который входили и гумбиненские толстые сосиски, Феденька Юрков рассказал эту историю при громком хохоте всех летчиков. Ему не чужд был соленый, грубоватый юмор.
Юрков поступил в авиацию за год до войны. На войне он с успехом летал сначала на таких старых первобытных аппаратах, каких давным-давно и помину не было во всех воюющих армиях. Немцы говорили: «Самые храбрые летчики это русские. Немецкий летчик счел бы безумием сесть на один из их аппаратов». Юркова точно чудом спасали от смерти его отвага, хладнокровие и находчивость.
За это время он успел все-таки сбить шесть вражеских аэропланов. В 1916 году он получил две пулевых раны и был из госпиталя командирован в Гатчинскую школу в качестве инструктора. Вернее, это был замаскированный отдых.
Как товарищ Юрков, несмотря на некоторую шершавость характера, отличался добротою, готовностью к услуге, всегдашней правдивостью и был любимейшим компаньоном. Как инструктор он был строг и крайне требователен. Он как будто бы совсем позабыл о том постепенном преодолении трудностей, о той постоянной гимнастике духа и воли, которые неизбежны при обучении искусству авиации. Большинство учеников сбегало от него к другим, более мягким, инструкторам, по зато из молодежи, обтерпевшейся в его жестких руках, выходили немногие, но первоклассные летчики.
В Гатчине Феденька Юрков выбрал своим жильем гостиницу Веревкина, на вывесках которого золотом по черному было написано: на одной «Vieux Verevkine» 7, а на другой «Распивочно и раскурочно» — старый наивный след, пятидесятых годов.
Гатчина, городишко тихий, необщительный, летом весь в густой зелени, зимой весь в непроходимом снегу. Там семьи редко знакомятся друг с другом. Нет в нем никаких собраний, увеселений и развлечений, кроме гаденького кинематографа.
Никогда ни одного человека нельзя было встретить: ни в Приоратском парке, ни в дворцовом, ни в зверинце. Замечательный дворец Павла I не привлекал ничьего внимания, пустовали даже улицы.
Вот именно в передней плохонького синема, после сеанса, Феденька Юрков и увидел Катеньку Вахтер.
Дожидаясь, пока ее матушка разыскивала свои галоши, а потом кутала шею и голову вязаным платком, Катенька стояла перед зеркалом, кокетничала со своею новой шляпой и вполголоса говорила подруге о своих впечатлениях, склоняя личико то на один, то на другой бок.
— Ах, Макс Линдер! До чего он хорош! Это что-то сверхъестественное, не объяснимое никакими человеческими словами! Какое выразительное лицо. Какие прелестные жесты!
Тут она повернула головку направо, и глаза ее столкнулись в зеркале с глазами Юркова. Она глядела прямо на летчика, но глядела машинально: она его не видела и продолжала говорить с преувеличенной страстностью, упираясь зрачками в его зрачки.
— Он безумно, безумно мне нравится! Я еще никогда не видала в жизни такого прекрасного мужчину! Вот человек, которому без колебаний можно отдать и жизнь, и душу, и все, все, все. О, я совсем очарована им!
В это мгновение восторженный образ Юркова влился в сознание барышни Вахтер. Она покраснела и поспешила спрятаться за широкую спину маменьки. Но про себя она сказала по адресу офицера, жадно пялившего на нее восхищенные глаза: «Какой дерзкий нахал»
Юрков отлично заметил ее гордый, небрежный и презрительный взгляд. Но… все равно… Теперь ему уже не было спасенья. Стрела амура успела пронзить в этот момент его мужественное сердце, и он сразу же заболел первой любовью: любовью нежной, жестокой, непреодолимой и неизлечимой.
В доме Вахтеров иногда бывали гатчинские летчики. Один из них, поручик Коновалов, ввел Юркова в этот дом, и с тех пор Феденька зачастил туда с визитами. Он приносил цветы и конфеты, участвовал в пикниках и шарадах, держал для мамаши на распяленных пальцах мотки шерсти, водил папашу, акцизного надзирателя и старого мухобоя, в офицерское собрание, где хоть и не без труда, по удавалось иногда выпросить стакан спирта у заведующего хозяйством школы капитана Озеровского. Недаром в исторической звериаде пелось:
А чтоб достать порою спирт,
Нам с Озеровским нужен флирт,
Химия, химия,
Сугубая химия.
Скрепя сердце играл Юрков в маленькие семейные игры и танцевал под мамашину музыку самые неуклюжие вальсы, венгерки и падеспани. Всем было известно, что он без ума влюбился в Катеньку. Товарищи-летчики удивлялись. Что он нашел в этой тоненькой семнадцатилетней девчонке? Она была мала ростом, с бледным лицом в пупырышках; к тому же была у нее неисправимая, дурная привычка беспрестанно двигать кожу на лбу, так что морщины подымались вверх до корней волос, что придавало лицу Катеньки глупое и всегда удивленное выражение. Не пленила ли Феденьку одна ее трепетная юность?
Бывший офицер славного холостого кавалерийского полка никогда не знал чистой, свежей любви. Он, подобно своим товарищам — драгунам, всегда в любовных делах занимался дальним каперством, чтобы не сказать пиратством, и вообще легкими амурами. Теперь он любил с уважением, с обожанием, с вечной иссушающей мечтой о тихих радостях законного брака. Это стремление к семейному раю порою глубоко изумляло его самого, и он иногда размышлял вслух:
— Гм… Попался, который кусался!..
Пробовал он порою закидывать косолапые намеки на предложение руки и сердца. Но куда девалось его прежнее развязное и бесцеремонное красноречие. Слова тяжело вязли во рту, а часто их и вовсе не хватало. Его жениховских подходов как будто никто не понимал…
К тому же всем давно было известно, что Катенька влюблена в Жоржа Востокова, двадцатипятилетнего летчика, который, несмотря на свою молодость, считался первым во всей русской авиации по искусству фигурного пилотажа. Кроме того, румяный Жоржик премило пел нежные романсы, аккомпанируя себе на мандолине и на рояле. Но он не обращал никакого внимания на Катюшины взоры, вздохи и на томные приглашения прокатиться на лодке по Приоратскому пруду. Вскоре он и совсем перестал бывать у Вахтеров.
Убедившись наконец в своей полной и бесповоротной неудаче, Юрков заскучал, захандрил, изнемог, и более двух недель он под разными предлогами не выходил из гостиницы «Vieux Verevkin’a» и вернулся на службу лишь после многозначительной бумаги начальника школы. Пришел он на аэродром весь какой-то мягкий, опущенный, с исхудалым и потемневшим лицом и сказал товарищам-пилотам:
— Я хворал и потому совсем раскис. Но теперь мне гораздо лучше. Попробую сегодня подняться на четыре тысячи. Это меня взбодрит и встряхнет.
Ему вывели из гаража его чуткий, послушный «моран-парасоль». Все видели, как ловко, круто и быстро он поднялся до высоты в тысячу метров, но на этой высоте с ним стало делаться что-то странное. Он не шел выше, вилял, несколько раз пробовал подняться и опять спускался. Все думали, что у него случилось что-нибудь с аппаратом. Потом он стал снижаться планирующим спуском. Но аэроплан точно шатался в его руках. И на землю он сел неуверенно, едва не сломав шасси… Товарищи подбежали к нему. Он стоял возле машины с мрачным и печальным лицом.
— Что с тобою, Феденька? — спросил кто-то.
— Ничего… — ответил он отрывисто. — Ничего… Я потерял сердце, как ни бился — не могу и не могу подняться выше тысячи метров, — и знаете ли? никогда не смогу.
Покачиваясь, он пошел через авиационное поле. Никто его не провожал, но все долго и молча глядели ему вслед.
Немного придя в себя, Юрков на другой день, и на третий, и на следующий пробовал одолеть тысячную высоту, но это ему не давалось. Сердце было потеряно навеки.
Владимир Летягин
Другие новости по теме
 Отрывок из книги «Пушки заговорили», где рассказывается о боях под Гумбинненом
Отрывок из книги «Пушки заговорили», где рассказывается о боях под Гумбинненом «Семейные истории о войне»: Рубченко Иван Иванович
«Семейные истории о войне»: Рубченко Иван Иванович Рассказ Пикуля Валентина Савича «Зато Париж был спасён»
Рассказ Пикуля Валентина Савича «Зато Париж был спасён» Отрывок из романа-хроники «Вместе с Россией», где рассказывается о боях под Гумбинненом
Отрывок из романа-хроники «Вместе с Россией», где рассказывается о боях под Гумбинненом
Гости из вашей страны не могут оставлять комментарии на сайте. Авторизируйтесь или пройдите регистрацию.